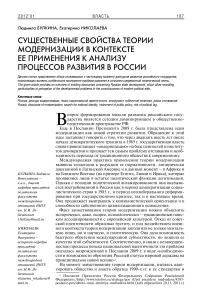Существенные свойства теории модернизации в контексте ее применения к анализу процессов развития в России
Автор: Булкина Людмила Вячеславовна, Николаева Екатерина Валерьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
Данная статья представляет обзор сложившихся к настоящему моменту дискурсов развития российского государства, позволяющих выявить особенности восприятия проблем развития в сознании современной политической элиты.
Россия, дискурс модернизации, поиск национальной идентичности, инструмент публичной политики, риски отставания
Короткий адрес: https://sciup.org/170166225
IDR: 170166225
Текст научной статьи Существенные свойства теории модернизации в контексте ее применения к анализу процессов развития в России
В опрос формирования модели развития российского государства является сегодня доминирующем в общественнополитическом пространстве РФ.
Еще в Послании Президента 2009 г. была представлена идея модернизации как новой стратегии развития. Обращение к этой идее заставляет говорить о том, что через двадцать шесть лет после начала демократического транзита в 1985 г. государственная власть снова провозглашает «модернизацию» на базе ценностей и институтов демократии и признает тем самым проблему отставания и необходимость перехода от традиционного общества к современному.
Международная практика применения теории модернизации выявила тенденции к редукции ее нормативности, эмпирически доказанной в Латинской Америке и в данный момент – в Африке и на Ближнем Востоке (на примере Египта, Ливии и Ирака), которые проявились лишь в остатке политической функции легитимации. Однако с позиции политической ангажированности она оказывается востребованной в России как в период демократизации социалистического строя в 1985 г., в период неолиберального реформирования при государственном кризисе, так и в настоящее время. Она продолжает выигрывать у коммунистической ориентации и в способности собственного цивилизационного осмысления.
Факт заимствования теории модернизации можно объяснить исторически, даже, скорее, психологически – традиционным поиском ассоциированности с европейской культурой. Отказ от советской идентичности образовал пустоту, и под воздействием внешнего контекста теория модернизации заполнила не только ментальную нишу, но и научную, и политическую. Она дала возможность быстрого обретения международной субъектности, но лишила ее качества этой субъектности. Соответственно, в связи с незавершенностью процесса поиска национальной идентичности эта проблема оказалась возрожденной в Послании 2009 г. в виде «необходимости и возможности обретения Россией статуса мировой державы на принципиально новой основе»1.
На момент заимствования теории модернизации, пытаясь адаптировать общество и власть образца 1990-х гг. к ее стандартам и требованиям успешной демократической консолидации, разработанным Г. Алмондом, С. Вербой, Р. Инглхартом, Д. Растоу, С. Липсетом, С. Хантингтоном, Х. Линцем и др., российские политологи формулируют модели модернизации в России.
Современный дискурс модернизации в России представлен в формуле четырех «и»: инновации, инвестиции, инфраструктура и институты. В статье президента «Россия, вперед!» определены пять стратегических векторов ее применения: внедрение нового вида топлива, развитие ядерных технологий, совершенствование информационных технологий, развитие космической инфраструктуры, производство отдельных видов медицинского обо-рудования1. Таким образом, можно говорить о «технологической» интерпретации понятия «модернизация» в современных российских условиях.
Подобное понимание возникло вследствие предшествующего цикла отдельных тактик развития: 1) ускорение, 2) либерализация, 3) приватизация, 4) экономический рост, 5) стабилизация. Они объединены общей политической направленностью развития «сверху», которая подтверждает архетипическое восприятие вопроса развития государства. В настоящее время этот цикл дополнился еще одним дискурсом развития – «новая индустриализация»2. Общим свойством всех перечисленных дискурсов оказывается их единая политико-мифологическая база ведущей роли власти в процессе изменений и развития.
Так, власть создала модель «суверенной демократии», которая совместила и представление об особом пути и особой российской, или русской, цивилизации, и стремление демократизироваться, сделала из модернизации конъюнктурный, практический инструмент публичной политики. Некритически восприняв западную модель модернизации, российские политики разобрали и взяли наиболее гибкие, технологические определения и превратили ее в вечную цель реформирования. Модернизация становится конструкцией с самым широким содержанием.
Современная политическая элита тем самым превратилась в единственного носителя и реализатора ценностей модернизации/демократизации, абсолютно лишая других политических акторов возможностей к выдвижению альтернативы.
В аналитическом докладе экономистов группы «СИГМА» представлены четыре сценария развития: «рантье», «мобилизация», «инерция», «модернизация»3. При этом стратегия «модернизация» предусматривает поэтапное формирование демократической общественно-политической системы с эффективной рыночной экономикой, что достигается через развитие производственно-финансовой, научнообразовательной, информационной, социальной инфраструктуры. Это подтвердили и участники международного дискуссионного клуба «Валдай-2011». Но в аналитическом докладе «Индекс развития России 2010–2011» была отмечена тенденция стагнации в сферах политического и экономического развития, научных исследований и культуры4.
Таким образом, данная стратегия предполагает комплексное институциональное преобразование общества, государства и экономики. Однако в связи с вероятностью фрагментарной реализации данный сценарий содержит риск срыва модернизационного процесса.
Проблема заключается в том, что вопрос развития понимается современной политической элитой исключительно в границах патримониального, авторитарного сознания, которое несовместимо с направлением инновационного развития с использованием собственных цивилизационных источников.
Таким образом, официально разработанные современные дискурсы модернизации, или новой индустриализации, в качестве стратегий оперируют архаичной терминологией политического управления процессами развития и содержат позиционные риски экономического, социального и политического отставания.