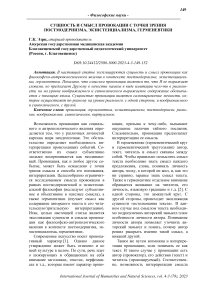Сущность и смысл провокации с точки зрения постмодернизма, экзистенциализма, герменевтики
Автор: Эзри Г.К.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 4-3 (79), 2023 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье эксплицируются сущность и смысл провокации как философско-антропологического явления в контексте постмодернизма, экзистенциализма, герменевтики. Показано, что смыслом провокации является то, что Я не выражает словами, но предлагает Другому в качестве намека в виде имитации чего-то в реальности, но на уровне воображаемого и символического выражаемое содержание обозначается с помощью языка. Сущностью провокации является самовыражение личности, которое осуществляет по-разному на уровне реального, с одной стороны, и воображаемого и символического, с другой.
Провокация, герменевтика, экзистенциализм, постмодернизм, реальное, воображаемое, символическое, виртуальное
Короткий адрес: https://sciup.org/170199189
IDR: 170199189 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-4-3-149-152
Текст научной статьи Сущность и смысл провокации с точки зрения постмодернизма, экзистенциализма, герменевтики
Возможность провакации как социального и антропологического явления определяется тем, что у различных личностей картина мира неидентичная. Это обстоятельство определяет необходимость интерпретации происходящих событий. Соответственно их смысл субъективно людьми воспринимается как неодинаковый. Провокация, как и любое другое событие, может быть осмыслено с точки зрения смысла и способа его понимания, интерпретации. Целесообразно ограничится исследованием смысла провокации в рамках постмодернистской и экзистенциальной философии (исследуют субъективное и объективное в генезисе смысла), а также герменевтики (изучает смысл как содержание авторского текста и его чита-тельскую/зрительскую интерпретацию). Итак, целью настоящей статьи является экспликация сущности и смысла провокации как философско-антропологического явления в контексте постмодернизма, экзистенциализма, герменевтики.
Современное искусство носит провока-тивный характер [1]. Однако данное утверждение может быть отнесено и ко всей культуре в целом. По сути, речь идет о шокирующих и обращающих на себя внимание заголовках, текстах, перфомансах и т.д., которые имеют характер прово- кации, призыва к чему-либо, вызывают ощущение наличия тайного послания. Следовательно, провокация предполагает интерпретацию ее смысла.
В герменевтике (герменевтический круг и герменевтический треугольник) автор, текст, читатель и смысл связаны между собой. Чтобы правильно осмыслить смысл текста необходимо знать смысл каждого предложения, слова, понимать личность автора, эпоху, в которой он жил, и, как это ни странно, заранее знать смысл текста. Также в герменевтике отдельное внимание обращается внимание на читателя, его личность, языковую традицию и т.д. [2]. С одной стороны, это замкнутый круг. С другой стороны, происходит экспликация сущности «истолкования текста». В данном случае под смыслом текста необходимо подразумевать авторский замысел плюс особенности личности автора. Понимание личности автора позволяет уточнить авторский замысел и понять, почему автор решил раскрыть именно такой смысл, а никакой другой.
Таким же путем возможна и интерпретация провокации, если понимать ее как текст. В таком случае у провокации есть автор (провокатор), его действия (текст) и читатель (провоцируемый). Соответственно, возможность интерпретации смысла провокации зависит от способности автора передать его наиболее целесообразно исходя из обстоятельств, учтя личность провоцируемого (возможности его понимания) и ситуацию. В таком случае смысл зависит по большей части именно от автора (провокатора).
В экзистенциальной философии и психологии предполагается, что личность самостоятельность приписывает смысл происходящим событиям. Субъективность конкретного человека фактически является границей интерпретации. Ограниченность жизни человек, вр е менность экзистенции, историчный характер бытия человека предполагают ограниченность субъекта ситуацией, одна и за ее пределы возможно выйти. Выход за пределы ситуации именуется «трансцендирование». Трансцендиро-вание носит символический и мифопоэтический характер, его невозможно познать, на него можно только «намекнуть» [3]. Интересно, что и провокация представляет собой намек на что-либо и требует выхода за пределы своего и чужого опыта.
Постмодернистская философия предлагает иное решение. «Смерть автора» не предполагает, что невозможно обнаружить конкретного субъекта, которому нельзя было бы приписать авторства. Имеется в виду то, что автор потерял права трансцендентного творца, пользующегося непререкаемым авторитетом, который единственный может верно, истинно передавать смысл. Теперь, получается, право интерпретацию принадлежит лишь читателю, а автор его утратил [4, с. 384-389]. Авторами (не в абсолютном, а в относительном смысле) в зависимости от ситуации теперь могут все субъекты. Ж. Делез и Ф. Гваттари такое положение вещей выразили термином «ризома», подчеркивая ситуативный характер человеческой идентичности [5, с. 6-45]. В таком случае, однако, увеличивается сложность в понимании текста, т.к. читатель самостоятельно интерпретирует замысел автор, смысл, заложенный автором. В таком случае интерпретация читателя может не соответствовать авторскому виденью.
Такой подход не способствует конструктивному пониманию провокации, в которой есть смысл. В данном случае возможно понимание лишь провокации ради провокации, когда эмоциональное воздействие на провоцируемого является главным стремлением провокатора. Намек ради намека. Получается, что в таком случае провокация является симулякром. И такие провокации возможны в постмодернистской культуре. Однако с философско-антропологической точки зрения провокация-симулякр может быть интерпретирована как следствие пустоты и одиночества в личности-провокаторе (нечего сказать). По крайней мере, на такие размышления наталкивает статья исследователя Д.А. Попова [1]. Подобные мысли возникают и при изучении экзистенциальной философии - как и в постмодернизме, необходимо говорить об одиночестве человека, правда о пустоте говорить не приходится. Невозможность трансцендиро-вать, чтобы выйти за рамки экзистенциальных данностей (раскрыты И. Яломом [6]), говорит именно об изолированном (речь о внутреннем одиночестве) характере индивидуального бытия.
В реальности, однако, вне зависимости от способности человека других как субъектов и объектов, в большинстве случаев тем или иным путем личностям удается наладить коммуникацию, диалог. В этой связи невозможно говорить о том, что большинство провокаций - это провокации ради провокации, провокации-симулякры. Следовательно, они имеют смысл, который с большим или меньшим успехом может быть интерпретирован.
Более глубокое понимание связи смысла, реальности, автора и читателя можно найти в творчестве философов-постмодернистов и психоаналитиков Ж. Лакана и С. Жижека. Ж. Лакан показал, что бессознательное структурировано как язык и что в его структуру входят реальное, воображаемое и символическое [7]. С. Жижек показал глубокую связь реального и виртуального [8]. Исходим из того, что символическое и виртуальное опираются на язык, а реальное не выражается через язык.
Дальнейшее рассуждение будет намеренно двусмысленным: реальное
Ж. Лакана и реальное как происходящие в реальности будут интерпретированы (пусть и не вполне справедливо) как одно понятие. А воображаемое и символическое Ж. Лакана будут поняты как намек, нечто невыраженное в реальности, словах, но которое может быть выражено в словах, через язык. Намек на воображаемом и символическом уровнях в том или иной виде присутствует в сознании и бессознательном личности. Кроме того, реальное, также символическое и виртуальное не следует сводить к галлюцинации и виртуальности, т.к. в любом случае можно обнаружить остаток, который не является симулякром (исходим именно из этого) и провокация осуществляется на уровне реального.
Как показала исследователь Т.Н. Шеметова, провокация связана с имитацией чего-то в реальности, а, затем, происходит деконструкция для выявления ранее не эксплицированных смыслов (на уровне воображаемого и реального) [9, с. 61-63]. Без имитации, которая невыразима в языке, т.к. она предполагает намек на что-то другое, невозможна провокация. Имитация должна быть явной, привлекать внимание, оказывать эмоциональное воздействие, но означать, иметь смыслом не саму себя, а что-то другое (авторский замысел). Без деконструкции имитации и всей ситуации невозможно понимание смысла провокации. Интерпретация провокации – интеллектуальная и эмоцио- нально-чувственная задача.
В конечном счете, говоря метафорически, в рамках постмодернистской культурной ситуации, когда роль автора и читателя ситуативна, они могут меняться местами и вступать в провокативный диалог. В данном случае неважно Я и Другой – это фигуры реального (в жизни или невыразимые в языке) или бессознательного (обна- руживаемые в процессе анализа или самоанализа). В любом случае им необходимо сообщений друг друга. Однако, психоаналитически, провокационная манера взаимодействия Я и Другого свидетельствует о их неготовности сообщить нечто языком, что и порождает такой способ самовыра- жения.
Таким образом, исходя из настоящего исследования, можно сделать ряд вывод.
Во-первых, с философской точки зрения существуют разные способы интерпретации смысла провокации. Например, герменевтический предполагает понима- ние смысла текста в контексте смысла слов, предложений, психологии автора и читателя. Экзистенциализм предлагает субъективно приписывать смысл в ситуации изолированного (одинокого) личностного бытия. Постмодернизм передает права интерпретации читателю, релятивизирует позиции автора и читателя, делает ситуативными, фактически обозначая индивидуальное бытие как онтологически и антропологически пустое.
Во-вторых, провокация содержит реальный элемент (невыразимую в языке имитацию) и воображаемый и символический элементы (выразимый в словах намек, который прямо не озвучивается). Экспликация смысла провокации возможна только в результате деконструкции, которая требует затраты интеллектуальных и эмоционально-чувственных усилий провоцируемого.
В-третьих, смыслом провокации является то, что Я не выражает словами, но предлагает в качестве намека в виде имитации чего-то в реальности, но на уровне воображаемого и символического выражаемое содержание обозначается с помощью языка. Сущностью провокации является самовыражение личности, которая осуществляет по-разному на уровне реального, с одной стороны, и воображаемого и символического, с другой. Смысл и сущ- ность провокации, как и она сама, не являются галлюцинаторными или виртуаль- интерпретировать смысл провокативных ными.
Список литературы Сущность и смысл провокации с точки зрения постмодернизма, экзистенциализма, герменевтики
- Попов Д.А. Пустота, свобода и одиночество в постмодернистском произведении // Фундаментальные исследования. - 2015. - № 2-27. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38627 (дата обращения: 20.04.2023).
- Малахов В.С. Герменевтический круг // Новая философская энциклопедия. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH6e4b249260a1b728ebfc6e (дата обращения: 20.04.2023).
- Гайденко П.П. Экзистенциализм // Новая философская энциклопедия. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH52371e9b5f23f6427bc452 (дата обращения: 20.04.2023).
- Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. - М.: Прогресс, 1989. - 616 с.
- Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения. - Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. - 895 с.
- Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. - М.: Независимая фирма "Класс", 1999. - 576 с.
- Печенина, О.В. Функции реального, воображаемого и символического в коммуникативной модели структурного психоанализа Ж. Лакана / О.В. Печенина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия, политология, социология, психология, право, международные отношения. - 2007. - № 4. - С. 208-215.
- Славой Жижек - Реальность виртуального. 2004. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=aDI1EKSAfQ4 (дата обращения: 20.04.2023).
- Шеметова Т.Н. Провокация как метод в современной журналистике: мысли по поводу // Теория и истории журналистики. - 2014. - №1. - С. 54-65.