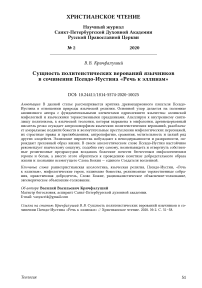Сущность политеистических верований язычников в сочинении Псевдо-Иустина «Речь к эллинам»
Автор: Кричфалуший Василий Васильевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 2 (91), 2020 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается критика древнецерковного писателя Псевдо-Иустина в отношении природы языческой религии. Основной упор делается на полемике анонимного автора с фундаментальными элементами одряхлевшего язычества: эллинской мифологией и языческими торжественными праздниками. Апеллируя к внутреннему святилищу политеизма, к языческой теологии, которая выражена в мифологии, древнецерковный писатель резко осуждает антропоморфизм языческих политеистических верований, разоблачает аморальные подвиги божеств и возмутительные преступления мифологических персонажей, их страстные нравы и прелюбодеяния, антропофагию, сражения, мстительность и целый ряд других злодейств. Эллинские пиршества побуждают к невоздержанности и развратности, порождают греховный образ жизни. В своем апологетическом слове Псевдо-Иустин настойчиво рекомендует языческому социуму, подобно ему самому, возненавидеть и отвергнуть собственные религиозные предрассудки воздавать божеские почести бесчестным мифологическим героям и богам, а вместо этого обратиться к проведению поистине добродетельного образа жизни и познанию всемогущего Слова Божия - единого Создателя вселенной.
Раннехристианская апологетика, языческая религия, псевдо-иустин, "речь к эллинам", мифологические герои, эллинские божества, религиозные торжественные собрания, нравственная добродетель, слово божие, рационалистическое объяснение-толкование, эвгемерическое объяснение-толкование
Короткий адрес: https://sciup.org/140249007
IDR: 140249007 | DOI: 10.24411/1814-5574-2020-10025
Текст научной статьи Сущность политеистических верований язычников в сочинении Псевдо-Иустина «Речь к эллинам»
Об авторе: василий васильевич кричфалуший
Магистр богословия, аспирант Санкт-Петербургской духовной академии.
Ссылка на статью: Кричфалуший В. В. Сущность политеистических верований язычников в сочинении Псевдо-Иустина «Речь к эллинам» // Христианское чтение. 2020. № 2. С. 51–58.
KhRiStiAnSKoye chteniye [christian Reading]
Scienti^c JournalSaint Petersburg ^eological Academy Russian orthodox church
no. 2 2020
Vasily V. Krychfalushii
^e essence of the Polytheistic beliefs of Pagans in Pseudo-Justin’s “oratio Ad Graecos”
Master of ^eology, Postgraduate student at the St. Petersburg ^eological Academy.
«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч», — сказал Спаситель (Мф 10:34).
Особое место в разделе раннехристианских апологетических памятников занимает анонимное произведение под заголовком «Речь к эллинам» (греч. Λόγος πρός Ἕλληνας; лат. Oratio ad Graecos), которое, вероятнее всего, было написано в конце II — пер. пол. III в. [Сидоров, 2011, 216]. По замечанию немецкого ученого Отто Барденхевера, эту небольшую и написанную живым языком «Речь» следует расценивать как своего рода оправдание перехода автора от язычества к христианству [Bardenhewer, 1902, 214], или же, по мысли проф. А. И. Сидорова, этот раннехристианский труд в какой-то степени может быть наделен характером Apologia pro vita sua, т. е. «Апологии своей жизни» [Сидоров, 2011, 216]. По причине того, что расположение духа анонимного автора данного труда тесно связано с настроением известного александрийского дидаскала и апологета Климента († ок. 215), некоторые исследователи выдвигают гипотезу, согласно которой местом происхождения Oratio ad Graecos в самом деле можно рассматривать Александрию [Ehrhard, 1900, 225; Са-гарда, 2004, 246]. Сочинение приобрело известность благодаря Codex Argentoratensis Graecus 9 и уцелело в следующих двух версиях: первая — краткая греческая; вторая версия — пространная, сохранившаяся в переводе на сирийский язык (под заглавием-транслитерацией греч. ῾Υπομνήματα) [Дунаев, 2012, 621]. Последняя приписывается некоему знатному греку Амвросию, возможно, сенатору или, с большей долей вероятности, меценату и другу александрийского богослова Оригена († ок. 254/55) [Преображенский, 1863, 30; Pouderon, 2005, 304–305]. Настоящий литературный манускрипт ранее на основе древних свидетельств церковного историка Евсевия, еп. Кесарийского [Евсевий Кесарийский, 1993, 195], и блж. Иеронима Стридонского [Иероним Стридон-ский, 1879, 305–306] ошибочно приписывался перу авторитетного древнецерковного апологета II в. св. Иустина Мученика и Философа (род. ок. 100 г. — обезглавлен в 166 г.), однако сам стиль и представления неизвестного автора чрезвычайно разнятся от подлинных апологетических памятников последнего, а из этого явствует, что апология не может считаться плодом литературной деятельности св. Иустина1. Псевдо-иусти-новское произведение свидетельствует о хорошем знакомстве, очевидно, обращенного из среды язычников древнего писателя с эллинской мифологией, ораторским искусством и, вне всяких сомнений, сфокусировано на опровержении политеистических верований, на критике язычества, главным образом, «с нравственной точки зрения» [Скурат, 2005, 31]. Автор сочинения на примере поэтических классических произведений Гомера и Гесиода дает критическую оценку древнегреческой мифологии, восхваляющей человеческие страсти, он резко обличает греховные деяния и пороки, противопоставляя мифологию и христианское веро- и нравоучение, языческие религиозные нравы и высоконравственный добродетельный образ жизни последователей новозаветной религии и, таким образом, не оставляя в стороне сам аспект высмеивания аморальных поступков языческих богов. Свой взгляд относительно природы языческих традиционных верований Псевдо-Иустин выражает в полемике против «классических» божеств Греции, мифических персонажей и их распущенных страстных нравов, бесстыдных торжественных пиршеств. Приступим непосредственно к рассмотрению самого текста апологии.
Прежде всего, бесповоротно отбросив языческие заблуждения, церковный писатель акцентирует внимание греко-римского общества на несомненной разумности и бесспорной основательности своего полного отделения (χωρισμόν) от языческих обычаев (ἐθῶν), в которых вовсе не содержится ничего «священного» (ὅσιον) или «любезного (приятного) Богу» (θεοφιλές). Сами поэтические произведения слывут в качестве памятников «исступления, неукротимой страсти» (λύσσης) и «невоздержанности» (ἀκρασίας) (Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos, 1.1) и всецело пленяют род человеческий, располагающий глубокой привязанностью к низшему, «вещественному», «земному».
Вслед за этим автор подвергает язвительному осуждению злодеяния мифических героев. Так, согласно рассматриваемой апологии, которая со всей очевидностью адресована эллински образованным язычникам, «Агамемнон (сын микенского царя Атрея и Аэропы, а впоследствии царь Микен. — В. К.), содействуя бешеной страсти (λύσσῃ) и неумеренной похоти (ἀκατασχέτῳ ἐπιθυμίᾳ) своего брата, охотно принес свою дочь в жертву (θυσίαν) и привел в волнение целую Грецию из-за того, чтобы возвратить Елену, похищенную презренным пастухом (ἁπὸ λέπρου ποιμένος ἡρπασμένην)» (Памятники, 1863: Речь к эллинам, I, 31; Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos, 1.2–3).
Таким образом, обращаясь к древнегреческому национальному эпосу — эпической поэме «Илиада» Гомера, писатель проливает свет на подлость, жестокость, надменность и безнравственные поступки греческих героев. В сочинении разоблачаются как раз те коварные деяния, которые характеризуют личностные отрицательные нравственные качества мифологических персонажей, а именно: «сын Лаэрта, царь Итаки приобрел славу добродетели (άρετήν) только своим лукавством. Ибо он не имел истинного благоразумия (ἀγαθῆς φρονήσεως)…» (Памятники, 1863: Речь к эллинам, I, 32; Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos, 1.6). Следовательно, древнегреческим героям присуще лукавство, посредством обмана они присваивают себе славу, честь и добродетели и в действительности они не обладают подлинной рассудительностью. В заключение первой главы автор заявляет о своем категорическом отказе вовсе доверять постыдным «рассказам Гомера» (τοῖς Ὅμήρου μύθοις), в которых предметом воспевания выступает «женщина» (γυνή), и выражает свое крайнее неприятие подобных низких качеств эллинских героев, их злодеяний, пороков и бесславных поступков.
«жертвой любви» (φίλτρων θῦμα), предаются роскошным пиршествам (указывается на Тиестовы пиры (τά θυέστεια δεῖπνα), учрежденные богинями мести и гнева — Эриниями, а последние являются аналогом древнеримских фурий) и в целом проводят разгульный образ жизни. Боги вступают в словесные состязания, прислуживают людям, пасут стада и губят людей, а также сражаются и умирают в битвах. Эллинские мифы приписывают героям и богам различного рода чудовищные, звероподобные, уродливые черты. Писатель высмеивает мифологический сюжет о жене Тиндарея, дочери Евритемиды и этолийского царя Фестия Леде и «сладострастном» Зевсе, плененном ее красотой, а затем представшем перед ней на реке Еврот в образе «крылатого существа» — лебедя. Таким образом, боги подают роду человеческому весьма неблагопристойный пример ведения разнузданного греховного уклада жизни. Неслучайно в своей апологетической «Речи» Псевдо-Иустин заостряет «жало» порицания на нечестивости и распущенности языческих героев и богов, ведь для античного сознания «благодеяния являются отличительным знаком божественности» [Gamble, 1979, 27]. Следовательно, автор находит эллинских божеств лишенными непременного условия божественной природы: нравственной добродетели. Путем детального исследования сущности и свойств эллинских божеств древнехристианский писатель приходит к выводу, что мифологических богов ни под каким предлогом не следует называть божествами, потому что своим происхождением и отнюдь не благочестивыми, а как раз напротив, позорными подвигами они противоречат подлинному представлению о «Царе нетленном» (βασιλέα ἄφθαρτος), едином Божестве. Тем самым писатель обращает внимание своего адресата на то обстоятельство, что греко-римские антропоморфные божества не могут быть претендентами на статус «бога».
Однако вместе с тем, стремясь указать на безрассудность и бессмысленность язычества и его губительное влияние на религиозно-нравственный образ жизни самого человека, древнецерковный защитник христианства излагает фундаментальные мотивы, по причине которых греко-римское общество обожествляет героев, «тиранов», сооружает для них капища, учреждает в их честь религиозные празднества и игры, изготовляет им тленных истуканов и благоговеет перед их вещественными изображениями. В частности, настоящий раннехристианский манускрипт гласит: «тревечерний Алкид, знаменитый храбростью предводитель битв, сын Зевса: он убил сильного льва и поразил многоглавую гидру. <…> И он, который мог совершить столько великих дел, как дитя, забавлялся кимвалами сатиров, и побежденный любовью к женщине, находил себе удовольствие в том, что улыбающаяся Лидянка секла его» (Памятники, 1863: Речь к эллинам, III, 34). Таким образом, христианский автор рассматривает древнегреческие мифологические повествования, связанные с сыном главного бога-олимпийца Зевса и Алкмены Гераклом, которому после смерти были учреждены «игры Гераклеи», в качестве исторического описания. Сами люди становятся объектом религиозного поклонения. Из культа умерших возникают языческие политеистические верования. Эллинское общество возводит в «ранг» божества ранее живших «великих людей» за совершенные ими героические подвиги или, напротив, решительно противоречащие морали и достойные осуждения деяния.
В связи с вышеприведенными поэтическими повествованиями об антропоморфических языческих божествах и мифологических героях, поступки которых в самом деле оказываются покрыты позором, автор заключает: «Итак, боги ваши, эллины, изобличены в разврате (ὑπὸ ἀκρασίας), герои ваши немужественны (ἄνανδροι), как показывают их действия, доставившие предметы для ваших драм…» (Памятники, 1863: Речь к эллинам, III, 34–35; Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos, 3.23–24). Несомненно, писатель указывает на растленную грехом природу языческих богов и героев.
С презрением отвергнув вероломных богов и мифических персонажей по моральным соображениям, древнецерковный писатель переходит к критическому рассмотрению национальных торжественных праздников языческого социума, вызывающих у автора явное недовольство и возмущение. Он характеризует их следующим образом: «Там чрезмерные наслаждения (ἄμετροι πλησμοναὶ) для чувственности, там сладкозвучные трубы, возбуждающие к бесчинным движениям (πρὸς οἰστρώδεις κινήσεις)… И у вас совершается такое множество порочных дел, уничтожающих стыд (αἰδῶ περιγράφετε) и помрачающих ум, когда движимые силою невоздержания (ἀκρασίας) приходите в неистовство: вы привыкли делать нечестивые (ἀνοσίαις) и развратные соития (μίξεσιν)» (Памятники, 1863: Речь к эллинам, IV, 35; Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos, 4.27).
Следовательно, приведенный апологетический пассаж показывает, что языческие всенародные празднества (πανηγύρεις), которые сопровождаются изобильными натираниями благовонными мазями и непристойной роскошью, без всякого сомнения, носят зазорный характер и являются источником необузданности и распущенности. Эллинские торжества безоговорочно расцениваются автором с позиции резкого осуждения как служащие, прежде всего, удовлетворению «безумных» страстей, плотского вожделения и различных греховных, пагубных потребностей, претворению в жизнь бесчестных поступков, стремительно умерщвляющих благоговейный страх и чувство стыда, приводящих человеческий разум к помутнению и, таким образом, порождающих неминуемую духовную смерть язычников.
Завершая свое полемическое выступление широким и бойким призывом приобщиться истинной и «непревзойденной мудрости» (σοφίᾳ ἀπαραμίλλητῳ), т. е. стать последователем новозаветной религии, апологет рекомендует греко-римскому обществу принять учение «Предводителя» христиан и обратиться к познанию Иисуса Христа — «Слова Божия» (θείῳ λόγῳ) и Его благонравных и добродетельных «славных мужей, героев» (ἥρωας). По мысли Псевдо-Иустина, Божие Слово не требует от человека «телесной силы» (σωμάτων ἀλκὴν), «красоты (изящества) вида» (τύπων εὐμορφίαν) или «благородного происхождения» (εὐγενείας), но желает «чистой (неоскверненной) души» (ψυχήν καθαράν), которая ограждает себя неподдельным благочестием (ὁσιότητι), безукоризненностью жизни и всякий раз устремляет свой взор к исполнению добродетели. Таким образом, церковный автор выдвигает на первый план тщательное хранение души в нравственной чистоте, непорочности и полное отвержение всякого морального зла, скверны: необходимо очистить собственные чувства и ум от страстного расположения и от всего греховного и противного Создателю. Исследователь Бернард Пудерон считает, что влияние стоицизма на анонимного писателя, например, в призвании к очищению души становится ясным и благоприятным и способствует принятию Логоса после избавления от страстей [Pouderon, 2005, 303]. Источником непорочности и освобождения души от угнетающего ее зла являются «боговдохновенное учение» (τῆς παιδείας ἔνθεον) и «сила (могущество) Логоса» (τὸ τοῦ Λόγου δυνατόν), способствующие духовному перерождению человека и изгоняющие из глубины человеческой души всякого рода ужасные губительные страсти (πάθη), в первую очередь похоть (ἐπιθυμίαν), которая служит причиной всевозможного зла: к примеру, ἐπιθυμία производит на свет вражду (ἔχθραι), зависть (ζήλος), раздоры (ἐρίθειαι), злобу (θυμοὶ) (Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos, 5.35). Благодаря действию «Божественной силы» душа становится спокойной (εὔδιος) и тихой (γαληνιῶσα), именно под воздействием «могущества Слова» подвластные смерти (θνητούς) люди коренным образом преображаются и приобретают бессмертие, т. е. смертные делаются богами (τοὺς βροτοὺς θεοὺς), тем самым получив освобождение от рабства греха.
В конечном итоге в своей полемике с языческими политеистическими верованиями анонимный автор «Речи» осуждает всю греческую «пайдею». Используя элементы традиционной моральной критики мифологии, писатель по очереди подробно анализирует вопиющие беззакония героев, а затем недостойные и непотребные деяния мифологических богов, их нравы, языческие лукавые обычаи и традиционные пиршества. В пределах эллинской мифологии с ее этическими представлениями автор не усматривает осуществления высоконравственного совершенства и подлинного богоподобия человека. В то же время писатель утверждает бытие всемогущего бесстрастного Божества, единого «Царя нетленного» и «Слова Божия» и концентрирует внимание языческого читателя, душевные очи которого омрачены грехом и злонравными деяниями, приводящими в стыд, на потребности очищения собственного сердца от греховного состояния. Однако если оставить в стороне обвинения в нравственных недостатках традиционных политеистических культов, то Псевдо-Иустином приводятся объяснения-толкования, которые он заимствует у языческих «просветителей» и «вольнодумцев»:
– рационалистическое объяснение-толкование подразумевает, что вера в языческие божества является результатом недомыслия пересказчиков, мифологизировавших реальные события (классическим примером тому служит сочинение Палефата «О невероятном»);
– эвгемерическое обяснение-толкование рассматривает языческих богов как ранее живших царей, великих людей, государственных правителей, которых язычники обожествили за содеянные ими выдающиеся достижения и заслуги перед цивилизацией или аморальные подвиги. Основоположником этой герменевтической концепции истолкования языческих мифов считается греческий философ Эвгемер из Мессены.
Таким образом, настоящие полемические мотивы, которые Псевдо-Иустин основательно перерабатывает, помещая в раннехристианский критический дискурс, были выведены древнехристианскими писателями апологетического периода из эллинистической философии, где они функционировали как аспект философской критики народной религии [Светлов, 2015, 382–396; Светлов, 2016, 206–216].
Список литературы Сущность политеистических верований язычников в сочинении Псевдо-Иустина «Речь к эллинам»
- Памятники (1863): Речь к эллинам - Иустин Философ, мч. Речь к эллинам (св. Иустина?) // Памятники древней христианской письменности в русском переводе. Т. IV: Сочинения древних христианских апологетов. Приложение к "Православному обозрению". М.: Университетская типография, 1863. С. 31-36.
- Justinus Philosophus et Martyr: Oratio ad Graecos - Justinus Philosophus et Martyr. Oratio ad Graecos // PG 6. Col. 229A-240A.
- Греческо-русский словарь / Сост. А. Д. Вейсман. Изд. 5-е. СПб., 1899.
- Дунаев (2012) - Дунаев А. Г. Иустин Философ // Православная энциклопедия. М., 2012. Т. 28. С. 610-627.
- Евсевий Кесарийский (1993) - Евсевий Кесарийский. Церковная история / Вводн. ст., коммент., библиогр. список и указатели И. В. Кривушина. СПб.: Олег Абышко, 2013.
- Иероним Стридонский (1879) - Иероним Стридонский, блж. Книга о знаменитых мужах // Творения блаженного Иеронима Стридонского. Киев: Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, 1879. Кн. 8. Ч. 5.
- Преображенский (1863) - Преображенский П., прот. О речи к эллинам (св. Иустина?) // Памятники древней христианской письменности в русском переводе. Т. IV: Сочинения древних христианских апологетов. Приложение к "Православному обозрению". М.: Университетская типография, 1863. С. 29-30.
- Сагарда (2004) - Сагарда Н. И., проф. Лекции по патрологии I-IV века / Под общ. и научн. ред. диак. А. Глущенко и А. Г. Дунаева. М.: Издательский Совет РПЦ, 2004.
- Светлов (2015) - Светлов Р. Платон и Эвгемер: "египетский логос" и "священная запись" // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2015. № 3 (33). С. 382-396.
- Светлов (2016) - Светлов Р. В. Платон и "вольнодумцы" // Христианское чтение. 2016. № 3. С. 206-216.
- Сидоров (2011) - Сидоров А. И., проф. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. II: Доникейские отцы Церкви и церковные писатели. М.: Сибирская Благозвонница, 2011.
- Скурат (2005) - Скурат К. Е., проф. Святые отцы и церковные писатели доникейского периода (I-III вв.): Учебное пособие по патрологии. Сергиев Посад: СТСЛ, МДА, 2005.
- Bardenhewer (1902) - Bardenhewer O. Geschichte der altkirchlichen Literatur. 1 Band: Vom Ausgange des Apostolischen Zeitalters bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts. Freiburg im Breisgau, 1902.
- Ehrhard (1900) - Ehrhard A. Die Altchristliche Literatur und ihre Erforschung von 1884-1900. 1. Abt: Die Vornicänische Litteratur. Freiburg im Breisgau, 1900.
- Gamble (1979) - Gamble H. Y. Euhemerism and Christology in Origen: "Contra Celsum" III 22-43 // Vigiliae Christianae. 1979. Vol. 33. № 1 (Mar.). P. 12-29.
- Goodenough (1925) - Goodenough E. R. The Pseudo-Justinian "Oratio ad Graecos" // Harvard Theological Review. 1925. Vol. 18. Is. 2. P. 187-200.
- Pouderon (2005) - Pouderon B. Les Apologistes Grecs du IIe siecle. Paris, 2005.