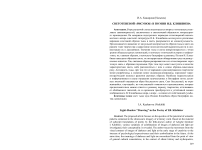Светотеневой «рисунок» в поэзии И.Б. Клишбиева
Автор: Кажарова Инна Анатольевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Прочтения
Статья в выпуске: 1 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
В предлагаемой статье акцентируется вопрос о потенциале смысловых закономерностей, заключенных в светотеневой образности литературного произведения. На материале подстрочных переводов стихотворений малоизвестного автора адыгской литературы И.Б. Клишбиева исследуются различные вариации сочетаний образов тьмы и света, раскрывается их концептуальность. Прослеживается движение от визуальной контрастности образов тьмы и света на раннем этапе творчества к нарастанию психологической выразительности и символизации их в дальнейшем. Значения тьмы и света конкретизируются с точки зрения общекультурных коннотаций, в контексте этнической истории и мифопоэтики, но, главным образом, в контексте биографии художника. Поэзия И. Клишбиева насыщена образами света, их интерпретация обнаруживает ряд индивидуальных аспектов. Так, световые образы раскрываются в его стихотворениях через тесную связь с образами звуковыми. При этом звук может выступать в качестве характеристики света, либо располагаться с ним в одном образно-смысловом ряду. Активность тьмы, при том что ее вариации в рассматриваемом творчестве менее разработаны, а значения менее индивидуализированы, определяет мировоззренческий подтекст развития световых образов. Наиболее выразительным и информативным в плане отражения запечатленных в биографии поэта духовных эволюций оказывается образ бессильного света. Свет бессильный, не отражающийся, «звучащий», но «неслышный» появляется в произведениях, которые предположительно можно отнести к раннему периоду творчества; отталкиваясь от обобщенных значений, он со временем преобразуется в устойчивый символ изображенного И. Клишбиевым мира, а шире - в символ его собственной судьбы.
Свет, тьма, звук, исмаил клишбиев, образ, биография, мотив, коннотации
Короткий адрес: https://sciup.org/149139963
IDR: 149139963
Текст научной статьи Светотеневой «рисунок» в поэзии И.Б. Клишбиева
Свет и тьма как естественные и привычные человеку феномены бытия играют существенную роль в создании и восприятии произведений искусства, словесного в том числе. Поэтому мы не сильно ошибемся, сказав, что в творчестве каждого автора можно обнаружить оригинальный светотеневой «рисунок», или светотеневое решение, причем независимо от степени акцентирования им образов света и тьмы. Привлекательной для анализа их делает высокая информативность, поскольку, как замечает Ежи Фари-но, «.. .свет и тьма, день и ночь, рассвет и вечер (равно как и другие явления) не являются носителями готовых значений. Свои значения они получают в конкретной системе как за счет актуализации накопленных культурой коннотаций, так и за счет соотнесения с другими явлениями мира произведения и за счет более или менее постоянной оценочной шкалы...» [Фарино 2004, 311]. Для художника это универсалии, миновать которые невозможно, а для исследователя - информативный ракурс восприятия творчества, и дело касается не только его образного уровня. Мы полагаем, что высказывание, которое открывается за теми или иными светотеневыми предпочтениями, всегда сопряжено с духовным опытом личности. Поэзия Исмаила Батырбековича Клишбиева (1896-1974), светотеневые соотношения которой мы здесь затронем, представляет одну из малоизученных страниц адыгской литературы, оттого всякий исследовательский подступ к ней актуален. Опираясь на опубликованные сведения, мы сначала кратко осветим главные события жизни поэта - без такого предварения анализ его творчества будет поверхностным, а затем перейдем к детализации характерного для него светотеневого решения.
Чтобы в дальнейшем не было неясностей, сразу отметим, что фигурирующие в работе понятия «адыгский» (производное от эндоэтнонима), «черкесский» (производное от экзоэтнонима) и «кабардинский» (актуализированное в ходе территориальных преобразований советского времени) относятся к одному и тому же этносу. И еще укажем, что все поэтические цитаты будут приводиться в нашем подстрочном переводе.
Сведения об Исмаиле Клишбиеве немногочисленны, но и этого достаточно, чтобы понять: среди адыгских интеллигентов дореволюционной поры это была личность незаурядная и хорошо известная. Очевидный довод в пользу такой характеристики - яркость его поэтического дарования. Тем не менее уже при новом строе его имя оказалось вычеркнуто из культурной истории адыгов, а затем и накрепко позабыто. «Вспомнилось» оно в 1957 г. Лингвист и педагог Хасан Эльбердов (сам прямой участник культурнических поисков дореволюционного времени), однажды беседуя с молодым коллегой Зауром Налоевым об ушедшей эпохе, привел по памяти стихотворение, в котором многое - от названия до интонационного лада - было необычно, и вкратце поведал о непростой судьбе его автора, волей политических обстоятельств оказавшегося оторванным от своей малой родины. Последующие штрихи к портрету Исмаила Клишбиева, в том числе публикация в 2009 г. первого и пока что единственного сборника его стихотворных произведений, появятся главным образом стараниями З.М. Налоева.
Пожалуй, особо значимым в творческой биографии И. Клишбиева можно назвать короткое время, когда он, по завершении учебы в Кабардино-Горском реальном училище имени императора Александра III, в числе еще нескольких выпускников организовывает «Кружок горской молодежи», с тем чтобы готовить к поступлению в училище детей из крестьянской среды. На этой ниве он сближается с прогрессистами из круга исламски образованной интеллигенции. Среди них уже упомянутый нами Хасан Эльбердов и Нури Цагов - активный деятель черкесской диаспоры в Турции, один из преподавателей-добровольцев, которые примерно с 1910 года стали направляться из Стамбула в Кубанскую и Терскую области и наряду с местными просветителями внесли заметный вклад в становление системы «“новометодного” черкесского образования, основанного на идеях джадидизма» [Чочиев 2015, 198]. В это время Клишбиев становится частым гостем в доме известного просветителя Адама Дымова, встречается здесь со многими деятелями так называемого «Баксанского культурного центра». Вдохновленный их идеями, особенно лекциями Нури Цагова, он пишет стихи, обменивается творческими советами с Али Шогенцуковым, будущим классиком адыгской литературы.
В революционной многоголосице, на фоне которой проходила пора взросления Клишбиева, для него, как и для его наставников, первостепенно все, что провозглашается в отношении культурного подъема народов России. Он озабочен проблемами национальной письменности и истории. Но уже скоро становится очевидно, что провозглашаемое сильно расходится с действительностью, и что в этой действительности ему грозит серьезная опасность.
В 1923 г. Клишбиев был вынужден тайно покинуть родные места, «так как стал подвергаться преследованиям, обвиняемый в “пособничестве белым”» [Опрышко 2020, 82]. Он перебирается в Баку, где надеется получить юридическое образование в вечернем институте. Надежды не оправдались по финансовым причинам, однако короткое время пребывания в институте подарило ему судьбоносное знакомство с той, что станет спутницей его жизни, Зинаидой Александровной Завельской. Вскоре они переезжают в Туапсе, «планируют сесть на иностранное судно и покинуть страну. Когда же и в этом их постигает неудача, Зинаида Александровна убеждает его, что будет лучше скрыться в Новосибирске, у ее родителей» [Клишбиев 2009, 8]. А тем временем, как уточняет О.Л. Опрышко, «на родине Клиш-биева, в КБАО, где его имя будет внесено в реестр “уголовных преступников”, сведений о его местонахождении не имелось. <...> В связи с тем, что Исмаила Клишбиева разыскать не удалось, его посчитали эмигрантом, выехавшим из страны» [Опрышко 2020, 84].
Хоть и весьма далекая от его творческих тяготений, но в Новосибирске у И. Клишбиева начнется интересная, деятельная жизнь, полная трудовых достижений. Причем с особым размахом его трудовая энергия проявится в условиях начавшейся войны [Опрышко 2020, 85-86]. Однако в ноябре 1942 г. Клишбиева арестуют. Обвинен в антисоветской агитации. Осужден в феврале 1943 г. Новосибирским облсудом к 5 годам лишения свободы [Открытый лист]. Никакие попытки защитить себя не принесли результата, положение еще больше усугублялось тем, что «всплыло» его дворянское происхождение. По отбытии срока в исправительно-трудовых лагерях он еще долгое время будет находиться в гуще индустриальной жизни Новосибирска, будет востребован на значимых должностях, которые доверялись ему, вероятно, в силу прежних заслуг [Клишбиев 2009, 9; Опрышко 2020, 86].
Будучи уже на пенсии, он переедет с семьей на Кавказ, в город Орджоникидзе. После долгих колебаний. Как поясняет его супруга, «глубокая обида, незаслуженная и тем более горькая, мешала ему решиться на это. Им было поставлено условие - не обосноваться в г. Нальчике» [Клишбиев 2009, 159].
Исмаила Клишбиева не станет в 1974 г. Он будет реабилитирован в 1981 г. общими усилиями его супруги и З.М. Налоева. А его поэзия (69 архивных тетрадей на адыгском языке и 20 - на русском) начнет свой прерывистый путь к читателю лишь в годы перестройки.
Исследование поэзии И. Клишбиева осложняется тем, что большинство его произведений не датировано. Все же, опираясь на немногочисленные исключения, З.М. Налоев увидел признак, который обособил поздний период от всего написанного ранее. Дело в резкой смене эмоциональнотематических доминант, причиной чему явилось трагическое событие -смерть в 1967 г. его единственной дочери, Джаннэт: «После пережитого горя главной в поэзии Клишбиева становится окрашенная в мрачные тона философия жизни и смерти, и в семь оставшихся ему лет он посвятит ей множество произведений» [Клишбиев 2009, 10]. Зная про этот рубеж, мы получаем некоторое основание судить об эволюции интересующих нас образов.
Всматриваясь в светотеневой «рисунок» клишбиевской поэзии, мы, разумеется, будем выделять для себя не только случаи, где непосредственно названы «тьма» и «свет», хотя и таковых немало. По прочтении его сборника невозможно не заметить прежде всего довольно широкий диапазон проявлений света. Руководствуясь суждениями исследовательницы парадигм образов в русском поэтическом языке Н.В. Павлович, подобную группу образов мы будем рассматривать на основе общего семантического признака, который она удачно обозначила как «световость»: «По-видимому все эти образы объединяет следующее. Везде речь идет о каком-нибудь свете, так сказать, “световости” (это может быть: светило, источник света - солнце, луна, отдельные звезды, созвездия, а также: поток света, световое пространство - закат, заря, поток лучей; это могут быть световые пятна, блики, отражение света в воде...)» [Павлович 2004, 49]. Закономерно, что помимо традиционных, узнаваемых воплощений тьмы и света, в поэтическом лексиконе Исмаила Клишбиева находят место и собственные, чисто авторские их интерпретации. К слову, обращает на себя внимание исламское понятие «кадар», которое пополняет перечень световых образов его поэзии. Для Клишбиева это не просто «божественная детерминированность происходящих в мире явлений, включая человеческие действия» [Тауфик, Сагадеев 1991, 125], но и «некая олицетворенная сущность. В ряде случаев она предстает во множественном числе - кадары и, судя по контексту, может быть отождествлена с ангелами, возвещающими судьбу» [Кажарова 2013, 55]. И в этой роли она светозарна: «Кадары светлые / О нас осведомлены...». Подобная трактовка тем более примечательна, что контрастирует в его поэзии с более привычными интерпретациями кадара.
Насыщенная «световость» уже заметна в раннем произведении Клишбиева. Речь о том стихотворении, которое некогда продекламировал X. Эльбердов - «Золотая Гряда» (1917). Как следует из его комментариев, дополненных позднее 3. Налоевым, образы «Золотой Гряды» возникли под впечатлением лекций по истории адыгов, прочитанных Н. Цаговым в «Кружке горской молодежи» [Эльбердов 1993, 311-312]. Известно, что стихотворение было популярно среди деятелей Баксанского культурного центра - прогрессивных религиозников, которым была близка светская культура.
«Золотая Гряда» (адыг. 1уэдыщэ) - иносказательное название родины адыгов, Северного Кавказа. В произведении образно запечатлелись два хронологических плана их истории - пора культурного расцвета, ассоциированная с прошлым, и время упадка, очередной этап которого - наблюдаемая поэтом действительность. Сообразно этим смыслам стихотворение условно разделяется на две части. Закономерно, что такое деление опирается на образно-смысловые контрасты.
Сквозной образ, который представлен в светотеневой игре «Золотой Гряды», - стройный тополь. Первая часть произведения насыщена образами света, и этот свет связан с пространственным верхом; во второй части доминирует тьма (или чернота), поскольку случилось, если можно так выразиться, «понижение» тополя в пространстве.
Тополь выступает в «Золотой Гряде» воплощением черкесского этноса, потому антропоморфен. Причем Клишбиев показывает его то в женском, то в мужском обличье. В адыгском языке, не знающем категории рода, тополь-женщина может восприниматься непротиворечиво, но вот необходимость несколько сбивчивого перехода в мужской образ, наверное, подразумевала какое-то скрытое значение. Этого мы коснемся чуть ниже.
Итак, в первой части тополь предстает в образе стройной девушки: «На одной из дальних вершин Гряды Золотой / Величавый тополь красиво рос, / Стройной нарядной красавицей / Весь мир любовался» [«1уэдыщэ и зы щыгу лъагэм / Зы щихушхуэ ек!уу къыщыкИ, / Къудану щ!эращ!э дахэм / Дуней псори къыщыгуф!ык1т»] [Клишбиев 2009, 27]. Вертикальное пространство (дальняя вершина, устремленный ввысь тополь) развертывает соответствующие ему образы света, связанные с небом, воздухом, космосом: «Облако светлое ее шелковистых волос / Светлая луна расчесывала, / Ее грудь, лебяжьему пуху подобную, / Солнечные лучи обнимали»; «Ее крона в небесном зените, / (И) белые облака ей кружевным покровом были. / Степные орлы в ней селились, (И) стоило ей качнуться, вереницами во все концы разлетались» [«/7шэ нэхууэ и данэ щхьэцхэр / Мазэ нэхум къыхурижьэкИ, / И бгъафэу щабэ къауцхэм / Дыгъэ бзийхэм зыкърашэкИ»; «И щхьэхэр уафэгурытти, / Пшэ хужьхэр и чэсей хъархэт, / Бгъащхъу-эжьхэр и унэрысти, / Сысамэ, зэк1элъыпхъэрхэрт»] [Клишбиев 2009, 27]. Несложно заметить, что, принадлежа миру горнему, этот свет активно проявляется в белом цвете. Ничего непривычного в этом нет, ведь белизна и свет - понятия одного ряда. Как замечает Ян Балека, «белый цвет, свет, освещение выражают победу над давящей темнотой и несвободой» [Балека 2008, 15]. В первой части есть и образы тьмы, но количественно они заметно уступают световой группе, и семантика их позитивна, даже тогда, когда возникает сравнение с ночным мраком.
Это всего лишь два упоминания, оба касаются отбрасываемой тополем тени: «Ханы могучие, когда из сил выбивались, / В ее тени прохладной располагались»; «Подобно глубокой ночи если помрачнеет, / Золотую Гряду тенью (она) покрывала» [«Хъаныжьхэр еша-ел!ахэмэ, / И ныбжъ жьа-уэм къыщет!ысэхт»; «Жэгц куугуэ зызэщ1иуф1ыц1эмэ, / 1уэдыщэ ныбжьыр тыридзэрт»^ [Клишбиев 2009, 27]. Интересно, что своеобразный апофеоз «световости» - молния, переломившая по воле «могучего, мстительного неба» ствол стройного тополя - приходится на седьмую строфу «Золотой Гряды», завершающую ее первую часть, то есть тему прошлого. Далее уже последует череда образов, окрашенных в темные тона. Также стоит заметить, что в обрамляющую образ тополя «световость» привходит мотив связи с божественным верхом («Стройный тополь был любимым детищем бога...» [«Къудан щихур тхьэщ!асэ бынти...»]), а он, в свою очередь, сочленяется с мотивом богопротивной гордыни и расплаты за нее («Но гордыня счастья разрушительница...» [«Ауэ щык!ыр насып ук!ыжти...»]).
Несколько отклоняясь от темы, стоит заметить, что «нрав» тополя не мог видеться Клишбиеву иным. Так, З.Ж. Кудаева обращает внимание на противоречивость мифологического символизма тополя в представлениях адыгов. Отыскивая причину, она склоняется к тому, что разнополюсные коннотации тополя обусловливаются его сакральной мощью, которая, вступая в противоречие с профанным пространством, способна выступать как губительная для человека. Но все же исходным является «...его сакральный символизм священного дерева как модели Космоса, олицетворяющего близость к божеству и само божественное начало» [Кудаева 2008, 166-167]. Особо четко конфликт профанного и сакрального просматривается в негативных коннотациях пирамидального тополя. Подобные коннотации, как уточняет исследователь, отражают более поздний этап развития мифопоэтических воззрений, связанный со временем распространения среди адыгов ислама. Для нас же примечательно, что лейтмотивом этих воззрений (и это отразилось в тополе Клишбиева) выступает «богоборчество» пирамидального тополя. Ведь устремляясь «на небо», тот соперничает с Аллахом; он «растет до пределов, где летают ангелы и мешает им летать» [Кудаева 2008, 166].
Во второй части «Золотой Гряды» (то есть во времени настоящем) тополь будет показан в мужском обличье, а женский образ лишь промелькнет в сопоставлении нынешнего упадка и былой красоты. Метаморфозу с родовым обличьем тополя Ю.М. Тхагазитов истолковывает тем, что образ дерева-женщины укоренен в мифологии адыгов: такова богиня растительности и мудрости Жиг-Гуаша, Клишбиев потому и придает тополю женскую сакральность. Но «во второй части тополь предстает существом мужского рода, ибо гордыня была присуща мужчине-воину, рыцарю, как она была присуща нартам (нарты - герои эпоса ряда народов Северного Кавказа. И.К.), погибшим из-за нее» [Тхагазитов 1996, 113-115]. Тополь во второй части «Золотой Гряды» соотносится уже с миром дольним. Сломленный, он понуро стоит на полуобвалившемся холме: «Ныне же на вершине Золотой Гряды / Один сгорбленный тополь стоит опечаленный / Грачей незаметно появляющееся полчище / Траурные песни-плачи на нем слагает» [«Нобэк1э 1уэдыщэ щыгум / Зы щиху тхышэ щопэзэзэх, / Вынды-жъуэ къуагъыдзэ гупым / Хьэдэ гъыбзэр къыраусэх»] [Клишбиев 2009, 28]. Разумеется, тьма здесь с отрицательным подтекстом. Она транслируется через черный цвет (полчище грачей) и через звук (траурные песни-плачи, тоже ассоциированные с черным цветом). Но помимо этого тьма второй части «Золотой Гряды» - это свет не отражающийся, вернее, отнятая у тополя способность его воспринимать: «Глаза ее полуистлевшие-полувы-жженные / И лучи в них уже не отражаются, / Горемычная на холме, готовом обвалиться, / И ни травинки под ней не растет» [«// нэхэр ныкъ-уэс-ныкъуэфщи / Нэбзийхэр щЬмыджэгуэж, / Щхьэ мыгъуэр бгы къеу-хынщи / Удз закъуи къыщ!эмык1эж»] [Клишбиев 2009, 28]. Обратно тому, что было в первой части, «световость» второй части минимизирована. С образом света, причем бессильного, соотносятся ангелы, которые упоми- наются в заключительной строфе. Свет при этом также оказывается связан со звуком (мольба ангелов). Но голоса ангелов не имеют силы, поскольку тополь уже не способен слышать: «Иногда лишь, моля о прощении, / Ангелы (сюда) спускаются, / Да только ничего (уж) не слышащий / Старик согбенный стоит опечаленно» [«Зэзэмызэ тобэ къе!ыхгуэ / Тхъэ1ухудхэр къыщоИысэх, / Арщхьэк1э зий зэхимыхыу / Л1ыжь тхышэр йопэзэзэх»] [Клишбиев 2009, 28].
Свет бессильный, не отражающийся, «звучащий», но «неслышный» появляется и в других произведениях, которые предположительно можно причислить к раннему периоду. Таковы «День угасает...» и «Мудрые боги». Во всяком случае, второе наверняка из ранних, поскольку иносказательно перекликается с теми днями из жизни поэта, когда он только покинул Кабарду. Незадолго до того как тайно перебраться в Баку, он скрывался у своих друзей-наставников: Н. Цагова, А. Дымова, X. Эльбердова, А. Шогенцукова [Клишбиев 2009, 7]. И можно предположить, что это они и есть «мудрые боги», к которым уже «нет дороги». Такая ассоциация кажется нам верной, тем более что она вполне в стиле Клишбиева, ведь и ангелы, о которых он упомянул ранее, в финале «Золотой гряды», были, согласно комментариям X. Эльбердова [Эльбердов 1993, 315-317], никто иные, как адыгские просветители, к числу которых он отнес также своих наставников.
В стихотворении «Мудрые боги» образы тьмы и «неслышного» света вплетены в повтор, составляющий композиционную рамку: «Ночь темна совершенно / Я один совершенно. / Неведенье со мной в ладу совершенном / Я готов совершенно. // В отдалении звезды /Беззвучны, / К моим мудрым богам / Нет дороги» ^«Жэщыр к1ыф1 дыдэщ / Си закъуэ дыдэщ / Бамп1эр сиф! дыдэщ, / Сыхьэзыр дыдэщ. // Жыжьэу вагъуэхэр / 1эуэлъауэншэщ, / Си тхьэ!ущхэр / Ек1уэл1ап1эншэщ»] [Клишбиев 2009, 71]. Симметрично расположенные в начале и конце произведения, эти строки определяют его колорит, зрительный и эмоциональный: одиночество и неведенье психологически однородны мраку ночи. Между этими отрезками, то есть в основной части стихотворения, изложена трагическая история преследований поэта и его ближнего круга. Итог и цветовая доминанта этой истории - тьма. Опредмеченная в образе «углов-закоулков», она утверждает себя в качестве смертоносной: «По углам-закоулкам / Мы разбросаны / К смертоносной темной ночи / Подведены» ^«ДурэшплЬрэшым / Дыхэ-гуэшащ, / Ажал к1ыф1 жэщым / Дыбгъэдашащ»] [Клишбиев 2009, 71]. Светотеневой рисунок этого произведения отчетлив и лаконичен: на его верхних и нижних пределах тьма и свет, но тьма «совершенна», а свет слаб и «беззвучен», в центральной же части наступает кульминация тьмы: естественным образом окрашивая физическое пространство, она противоестественно сгущается в мраке смерти.
Светотеневое решение упомянутого стихотворения «День угасает...» претворено таким образом, что на смену зрительным акцентам заступают звуковые акценты света и тьмы. И если градации солнечного и лунного 356
света воспринимаются вполне привычно, равно как и образ «тихо вздыхающей ночи», то образ звучащего, но неслышного света задерживает внимание: «Никто не слышит / Как зажигают звезды. / В дали небесной / Плачутся звезды, / О своих былых обидах, / Вызывая в сердце боль, сетуют друг другу» [«Зыми зэхимых / Вагъуэхэр зэрыпагъанэр. / Уафэм жы-жьэу / Вагъуэхэр щогъынанэ, / Я1а гукъанэр / Гур игъэузу зэра!уатыл1эр»^ [Клишбиев 2009, 67].
Стоит заметить, что вариации бессильного света в поэзии Клишбиева разнообразны и чаще всего переплетаются с тремя мотивами: распавшегося братства, непостижимости бытия, жизни души. Братство, дружба в его поэзии всегда связаны с образом солнца, солнечного света и звезд: «Наше солнечное сердце никак не достигнет накала / Наше братство до чего же бессильно! // Мои добрые приятели / Меня уже не признают, / В темных закоулках / Я погибаю» [«Дигу дыгъэр мыхъуу зэ гуащЬ, / Ди къуэшыгъ-эр сыту 1эщ1эмащ1э! // Сэ къуэшыф!хэм / Самыдэж, / Дурэш к!ыф1хэм / СыдокЗуэдэж»^ [Клишбиев 2009, 59]. Оглядываясь на прожитое, он называет друзей белыми звездами, звездами жизни [Клишбиев 2009, 82-83].
Примечательно, что в размышлениях о земном бытии и жизни души намечаются попытки не признать бессилие ассоциированного с ними света. Надличностный «сценарий» человеческого бытия видится ему в световых образах. Жизнь - «таинственный край, озаренный солнцем». Таков заглавный образ одного из стихотворений. Можно заметить, что рождение и уход человека трактуется здесь всего лишь как усиление и ослабление света: «Золотым солнцем / Мы закатываемся / Золотым солнцем воскресаем»; «Вечерней звездой / В облако уходим / Утренней звездой / Возвращаемся» \«Дыщэ дыгъэу / Дэ дыкъуохьэ, / Дыщэ дыгъэу / Дыкъохъуж»; «Пшапэ вагъуэу / Пшэм дыхохьэ, / Нэхущ вагъуэу / Дыкъосыж»] [Клишбиев 2009, 70].
В мрачной палитре позднего стихотворения «Подобно жертвенным баранам...» (1972) есть образ души, светящей самой себе в непроглядной тьме. Этот образ упоминается мимоходом, не акцентируется, а констатируется, но внезапность его появления в пределах поступательно раскрывающейся «темы» ночи разрушает гармонию последней, создает эффект яркого светового пятна на черном фоне: «В ночи беспроглядной / Душа сама себя озаряет, / Из (недр) ночи затаенной / Скорбь струится // В той затаенной ночи / Живому видеть довелось ли? / Сквозь затаенную ту ночь / Живой увидел иной берег?» [«Жэщ къэмынэхум / Псэр зыхопсэж, / Жэщ яущэхум / Гуауэ къыщ!ож. // А жэщ щэхум / Псэур зэпхырыплъа? / А жэщ щэхум / Псэур зэпрыплъа?»] [Клишбиев 2009, 48]. Но в основном жизнь души со всей ее светоносностью и светозарностью представляется лишь частью некоего безостановочного цикличного движения, при этом «цикличность перемещений души от земной поверхности ввысь и обратно больше напоминает неотвязный, повторяющийся кошмар... <...> Удел души в такой бесконечности - мучиться неведением» [Кажарова 2013, 56]: «Когда из утренней зари / Мы появлялись / Когда от вечернего зарева /
Мы спасались, / Ведали мы (о таком?) / Видалось (такое) луне?» \«Нзхуи1 дыгъэплъым / Дыкъыщыхэк1ым, / Пшапэ пшэплъым / Дыщы1эщ1эк1ым, / Дыщыгъуэза? / Мазэр хуэза?»] [Клишбиев 2009, 57]. Ритм этого беспрерывного движения может воссоздаваться через многократные повторы, в которых упоминаются свет и угасание. К примеру, фрагмент стихотворения «Беспрерывно»: «Беспрерывно / Угасает, / Угасает. И Беспрерывно / Озаряет / Озаряет. И Исчезает, / Исчезает. / Воскресает, / Воскресает. // Беспрерывно, беспрерывно / Светит солнце, светит солнце. / Ускользает, ускользает» [«Зэпымычуэ / Мэуф1ынк1ыжыр, / Мэуф1ынк1ыжыр. И Зэпымычуэ / Къоунэхужыр, / Къоунэхужыр. И Мэк1уэдыжыр, / Мэк1уэдыжыр. / Къагъэхъужыр, / Къагъэхъужыр. // Зэпымычуэ, зэпымычуэ И Дыгъэр къоп-сыр, дыгъэр къопсыр / Т1эщ1ок1ыжыр, т1эщ1ок1ыжыр»] [Клишбиев 2009, 96-97]. Напряженность подобного светового сценария усилена молчаливым присутствием невидимых сил. Они могут именоваться по-всякому: «кадары», «жестокий пастух», «ведущий под уздцы» или вообще никак, но их присутствие несомненно, как в стихотворении «Подобно лампочкам». Кстати, в сборнике это единственный случай, когда душа ассоциирована с искусственным светом: «Подобно лампочкам / Нас (здесь) оставляют / Подобно лампочкам / Нас зажигают / Однажды наш свет угасает / Душа бесшумно / От нас ускользает» [«Уэздыгъэу / Дыкъагъанэ. / Уэздыгъэу / Дыпагъанэ. И Ди нэхур / Зэ мэуфТынк!. / Псэ щэхур / Дэ т1эщ1ок!»] [Клишбиев 2009, 98].
Искусственный или естественный, свет настойчиво соотносится в поэзии Исмаила Клишбиева с человеком. Иное дело, что свет этот чаще всего ограничен, обессилен - неодолимыми обстоятельствами, присутствием высшей воли. Зная биографию Клишбиева, можно говорить о том, что бессильный свет соотносится с его опытом вынужденного молчания и крушения надежд. Однако подобное больше характерно для стихотворений, в которых герой предстает в своей единичности. Как только возникает «мы», световая образность нарастает, меняется качество света, он становится интенсивнее. Меняется и характер тьмы. Тьма в «истории о себе» зловещая - это углы-закоулки, мрак ночи, мрак смерти. В надличностной же истории тьма претендует на то, чтобы явиться всего лишь мгновением беспрерывного цикла: угасание света, за которым следует его «воскрешение».
Список литературы Светотеневой «рисунок» в поэзии И.Б. Клишбиева
- Балека Ян. Синий - цвет жизни и смерти. Метафизика цвета. М.: Искусство - ХХ1 век, 2008. 408 с.
- Кажарова И.А. Оппозиция «душа / тело» в адыгской поэзии // Человек. 2013. № 1. С. 46-62.
- Клишбиев И.Б. В огне не сгоревшие стихи. Нальчик: Издательство КБИГИ, 2009. 171 с.
- Кудаева З.Ж. Мифопоэтическая модель адыгской словесной культуры. Нальчик: Эльбрус, 2008. 296 с.
- Опрышко О.Л. Жизни и судьбы: ученики Кабардино-Горского реального училища. 1909-1920. Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2020. 344 с.
- Открытый список. URL: https://ru.openlist.wiki/Клишбиев_Измаил_ Батырбекович_(1893) (дата обращения 01.05.2021).
- Павлович Н.В. Язык образов. М.: Азбуковник, 2004. 527 с.
- Тауфик И., Сагадеев А. Ал-Када вал-Кадар // Ислам: Энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991. С. 125.
- Тхагазитов Ю.М. Эволюция художественного сознания адыгов. Нальчик: Эльбрус, 1996. 256 с.
- Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. 639 с.
- Чочиев Г.В. Деятельность черкесского общества единения и взаимопомощи в Османской империи в 1908-1914 гг. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 9(59). Ч. I. С. 196-200.
- Эльбердов Х.У Избранные произведения. Нальчик: Эльбрус, 1993. 416 с.