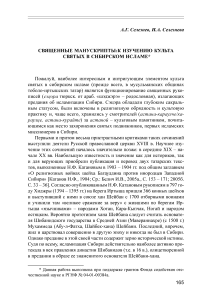Священные манускрипты: к изучению культа святых в сибирском исламе
Автор: Селезнев А.Г., Селезнева И.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XII-2, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521277
IDR: 14521277
Текст статьи Священные манускрипты: к изучению культа святых в сибирском исламе
Проведенный казанскими археографами в 1977 г. просмотр текстов показал, что, во-первых, существуют варианты опубликованных Н.Ф. Катановым материалов, один из которых хранится архиве Санкт-Петербургского филиала Института Востоковедения РАН и носит условное название «Тарих», т.е. «История»; и, во-вторых, что сочинения подобного рода были распространены среди татар Сибири довольно широко [Усманов М.А., Шайхиев Р.А., 1979].
В частности, широкую известность получили предания, записанные в двух разных, но очень близких между собой по содержанию, вариантах. Первый вариант был зафиксирован в ХIХ в. выдающимся тюркологом В.В. Радловым в деревне Саургачи (ныне – Усть-Ишимский район Омской области), а переведен на русский язык и опубликован Н.Ф. Катановым [Рад-лов В.В., 1872. С. 212 – 215; Катанов Н.Ф., 1897. С. 51 – 61]. Второй вариант был опубликован в 1905 г. востоковедом Ризой Фахретдином, а затем без изменений воспроизведен в книге Хади Аталаси «История Сибири» [Атласи h.М., 1992. Б. 75 – 78; Атласов Х.М., 2005. С. 52 – 54]. Название этих документов «Шаджара рисалясе» исследователи предлагают перевести как «Генеалогическое древо саидов Сибирского ханства» или «Родословная сеидов» [Исхаков Д.М., 2005. С. 84 – 85; Яхин Ф.З., 2005. С. 191 – 197]. Согласно этим текстам, в 980 г. Хиджры (1572 г. н.э.) хан Кучум обратился с просьбой оказать содействие в распространении ислама в Сибири непосредственно к бухарскому хану Абдулле (Абд-Ал-Лах/Убайдаллах-хан II), одному из потомков Шейбани-хана. В Искер – ставку Кучум-хана – были посланы два образованных знатока ислама из Ургенча – Ширбати/Шарбати-шейх и Йарым-Саид. Последний по истечении двух лет умер, в то время как Шарбати-шейх вернулся в Ургенч. В ответ на повторное обращение Кучума, этот Шарбати-шейх вместе с братом покойного Йарым-Саида шейхом Дин’али вновь согласились прибыть в Сибирь. Правда предварительно, миссионеры обратились к хану Абдулле с просьбой выделить военное сопровождение ввиду опасностей, которые могут встретиться в пути. Такой военный конвой из сотни воинов был выделен. Командовал этим формированием брат Кучума Ахмед-Гирей.
Что же касается рукописи «Тарих», то труд по ее изучению взял на себя американский историк Эллен Франк. По его данным, в целом текст данного документа совпадает с содержанием катановских рукописей, однако есть одно существенное отличие. В «Тарих» появляется образ легендарного Тайбуги – основателя сибирской династии Тайбугидов. Согласно этому варианту, шейхи не просто вели войну за распространение ислама в Сибири, но и выселили всех неверных за пределы региона. В результате, в течение 9 или 10 лет он был незаселен, пока хан Бухары Миравваль-шах не послал своего сына Тайбугу-Бия заселить Сибирь и установить там ислам [Frank A., 1994. P. 7, 12, 19].
Примечательно, что уже с довольно раннего времени мусульманская историография включает сибирские материалы в общий контекст развития ислама среди татар и башкир Российской Империи. Так в каталоге могил святых подвижников, приложенному к рукописи « Тарих Нама-йи Булгар » (Книга Булгарской истории), которая была составлена в 1805 г. муллой Тадж ад-Дином Ялчигуль-оглы (Таджетдином Ялсыгуловым), среди прочих перечислена и святая гробница Ак Ходжи в Тобольске (вероятно имеется в виду Искер). Весьма важно, что в этом же источнике употребляется термин астана ( âstâna ) для обозначения священной могилы суфийского шейха [Frank A.J., 1998. P. 2, 117, 118].
Чрезвычайно интересный текст был отпечатан с татарской рукописи « Кыссэ-и Хубби-ходжа (повествование о Хубби-ходже)» в типолитографии Казанского университета в 1899 году. В брошюре содержатся мифологические рассказы об известных суфийских персонажах Хубби-ходже, Сулеймане Бакыргани (Хаким-ата), Амбар-ана, Зенги-ата. Кроме прочего, в книжке рассказывается вкратце о старце Ходже Багау’д-дине, жившем в Бухаре во время хана Абу’ль-Лейса, в XIII веке, о 366 человеках, пришедших в Башкирию для проповедования ислама, о 500-х человеках, пришедших с той же целью в столицу Кучума Изгер (Искер, Кашлык), и о местах Азии, где есть какие-либо святые (перечислены лишь деревни). Очевидно, что этот текст содержит приблизительно ту же канву событий, что и разбираемые сибирско-татарские рукописи [Катанов Н.Ф., 2004. С. 147]. Подобные предания широко используются исследователями для изучения истории исламизации Сибири.
Символично, что последнее по времени открытие рукописей было сделано двумя разными группами исследователей в один и тот же 2004 год, т.е. ровно через 100 лет после публикаций Н.Ф. Катанова. Первый из этих документов, выявленный и зафиксированный сотрудником Тюменского областного краеведческого музея Р.Х. Рахимовым и сотрудницей Института гуманитарных исследований Тюменского университета Г.И. Зиннатулиной был переведен на русский язык и опубликован под названием «Грамота хранителя Юрумской Астаны». Список был сделан в 1846 г. и состоит из трех текстов. Особый интерес вызывает текст № 2, излагающий цепь духовной преемственности (силсила) суфийских шейхов. Здесь же приводится краткое описание некоторых суфийских ритуалов почитания памяти шейхов, в частности обряд «зажигание лучинки» [Ислам в истории и культуре… . 2004. С. 41 – 43; Рахимов Р.Х., 2005. С. 118 – 120; 2006. С. 12 – 21; Сагидуллин М.А., 2005.С. 123 – 124]. К сожалению, существенно затрудняют работу с текстом слабая атрибуция «Грамоты…» (неясно где, кем и в какой социокультурной среде был создан памятник; квалификация переводчика), а также значительные лакуны, обусловленные, видимо, неполной сохранностью документа.
В том же 2004 году экспедицией Омского филиала ОИИФФ СО РАН (Сейчас Омский филиал института археологии и этнографии СО РАН) в составе А.Г. Селезнева (руководитель экспедиции), И.В. Белича, В.В. Воеводина и других был зафиксирован и отснят новый документ очень хорошей сохранности, представляющий собой рукописный бумажный свиток, намотанный на деревянный цилиндрический стержень. Свиток называется «сэцэра» (родословная), и принадлежит мулле деревни Большой Карагай Вагайского района Тюменской области Батинову Рахматулле Хасановичу. Большой Карагай – крупный религиозный центр, здесь была старая мечеть, и сюда притягивалась жизнь религиозной общины как с соседних, так и довольно отдаленных деревень.
Текст Карагайской рукописи был изучен и переведен на русский язык профессором Ф.З. Яхиным. Как и все предыдущие рукописи, он был выполнен на татарском языке (сибирско-татарские диалекты) арабской графикой, почерком насх в стиле 18 века. Текст был составлен Гайнутдином муллой Хилкат Йарканди, называвшим себя также «хасса-гайн», т.е. «уважаемым господином» (или «господином смотрителем»). Содержание документа аналогично содержанию рукописей Катанова. В первой части описаны события древней религиозной войны шейхов против язычников на Иртыше, во второй – приводится перечень 30 мавзолеев с именами захороненных подвижников. Разумеется, подобные тексты не представляют собой нечто особенное и широко представлены в различных регионах исламского мира.
В предыдущих публикациях, опираясь на заключения специалистов, мы подчеркивали наличие теснейшей связи содержания рассматриваемых сочинений с народной фольклорно-легендарной традицией [Селезнев А.Г., Селезнева И.А., 2003. С. 42; 2004. С. 14]. Вновь полученные и опубликованные материалы не дают оснований для отказа от этого вывода. Укажем на два момента.
Во-первых, устойчиво повторяющийся и в фольклоре и во всех письменных источниках мотив количества прибывших в Сибирь миссионеров ислама – их число составляет 366, иногда 365 человек. Данный мотив широко распространен в исламском мир. Его истоки восходят к суфийской традиции святости, к сформировавшейся в суфизме иерархии святых как ступени благочестивой жизни [Белич И.В., 2005б. С. 35 – 36].
И в рукописных текстах, и в фольклоре присутствуют мифологические персонажи, среди которых особое место принадлежит образу Занги- ата. Этот образ, выступающий, чаще всего в виде покровителя крупного рогатого скота чрезвычайно широко распространен в верованиях и культе народного ислама. В той же ипостаси Занге-ата / Занге-баба (Санге-баба, Занге-бобо) присутствует в религиозных воззрениях и фольклоре татар Сибири. Хорошо известен исторический прототип данного персонажа. Это суфийский шейх Занги-ата, ученик суфия Сулеймана Бакиргани (Хаким-ата), который в свою очередь был учеником знаменитого Ходжи Ахмеда Ясеви, основателя суфийского ордена Ясевия. [Селезнев А.Г., Селезнева И.А., 2003. С. 45 – 50]. олагаем, что взгляд на рукописи религиозного содержания как на этнографический источник имеет исследовательскую перспективу. Ибо «…оригинальные тексты на восточных языках остаются важным подспорьем в работе этнолога. Они позволяют понять «границы» исламской религиозности, не говоря о том, что многие такие тексты представляют запись проповедей и местных преданий» [Бобровников В.О., 2006. С. 4 – 5].