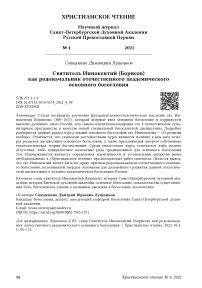Святитель Иннокентий (Борисов) как родоначальник отечественного академического основного богословия
Автор: Лушников Дмитрий Юрьевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 4 (103), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению фундаментально-теологического наследия свт. Иннокентия (Борисова; 1800-1857), который впервые ввел основное богословие в куррикулум высших духовных школ России, тем самым институциализировав его в отечественном гуманитарном пространстве в качестве новой специальной богословской дисциплины. Подробно разбирается первый раздел курса лекций основного богословия свт. Иннокентия - «О религии вообще ». Отмечается, что главными достоинствами курса являются наличие в нем всех четырех разделов дисциплины основного богословия, а также предложенная автором собственная гносеологическая теория богопознания. Среди недостатков курса отмечается либо полное отсутствие, либо поверхностное изложение ряда традиционных для основного богословия тем. Подчеркивается важность определения идентичности и установления авторства ранее опубликованных в «Христианском чтении» предполагаемых работ святителя. Делается вывод, что свт. Иннокентий может быть по праву признан родоначальником отечественного основного богословия, положившим твердые основания для дальнейшего развития данной теологической дисциплины в духовно-академическом богословии России.
Святитель иннокентий (борисов), история санкт-петербургской духовной академии, история киевской духовной академии, основное богословие, доказательства существования бога, богословское учение о познании, введение в богословие, апологетика
Короткий адрес: https://sciup.org/140295907
IDR: 140295907 | УДК: 271.2-1-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_4_98
Текст научной статьи Святитель Иннокентий (Борисов) как родоначальник отечественного академического основного богословия
Научно-преподавательская деятельность свт. Иннокентия
Святитель Иннокентий (Борисов; 1800–1857), архиепископ Херсонский и Таврический, известен как один из самых просвещенных деятелей Русской Православной Церкви первой половины XIX в.1 Будучи глубоким и оригинальным мыслителем, хорошо осведомленным в проблематике новейшего западного богословия и обладавшим при этом серьезными познаниями в области философии, святитель стал, по сути, родоначальником отечественного академического основного богословия.
Родился свт. Иннокентий — в миру Иван Алексеевич Борисов — в 1800 г. в городе Ельце Орловской губернии в семье священника. В 1810 г. поступил в Воронежское духовное училище, по окончании которого — в Орловскую духовную семинарию. Закончив последнюю в 1819 г. в числе лучших воспитанников, был отправлен на учебу в только что открывшуюся Киевскую духовную академию. В 1823 г., закончив Академию первым по успеваемости, 23-летний магистр Иван Борисов был определен в Санкт-Петербургскую семинарию инспектором и профессором церковной истории и греческого языка2. Менее чем через три месяца одновременно с этим занял должность ректора Александро-Невского духовного училища. С 1824 г. уже иеромонах Иннокентий был назначен бакалавром богословских наук Санкт-Петербургской духовной академии. В 1825 г., став инспектором Академии, был утвержден действительным членом академической конференции. В 1826 г. получил звание экстраординарного профессора и был возведен в сан архимандрита. В 1829 г. за ряд сочинений, преимущественно историкобогословского содержания, был утвержден доктором православного богословия.
В 1830 г. архим. Иннокентий был определен ректором и профессором богословских наук в Киевскую духовную академию. В 1836 г. хиротонисан во епископа Чигиринского, викария Киевской епархии. Ректорство святителя продолжилось до 1840 г., вплоть до назначения на Вологодскую кафедру. В 1841 г. он был переведен в Харьковскую епархию, а также по представлению министра народного просвещения утвержден ординарным академиком Императорской Академии наук. С 1848 г. и до своей кончины, случившейся после непродолжительной болезни в 1857 г., — архиепископ Херсонский и Таврический [Послужной список, 1867, 1–8].
В 20-х гг. XIX столетия — т. е. ко времени начала научно-преподавательской деятельности свт. Иннокентия — преподавание богословских наук в духовных академиях России регламентировалось не только Уставом 1814 г., в котором, по словам Н. Ю. Суховой, достаточно неопределенно говорилось о том, «что должно включать в себя академическое богословие и как следует его преподавать» [Сухова, 2012, 71], но и, во многом, — разработанной свт. Филаретом (Дроздовым) концепцией, изложенной им в программном сочинении «Обозрение богословских наук в отношении преподавания их в высших духовных училищах» [Филарет Дроздов, 1885, 122–151]. Изданное в 1814 г. — однако уже после утверждения нового Устава — «Обозрение» явилось, по сути, первым опытом создания системы православного богословия, где излагались структура богословия и последовательность изучения его частей, предлагались методы, практические указания и вспомогательная литература для изучения каждого вида богословия [Сухова, 2012, 71–73].
В целом, созданная свт. Филаретом «формальная энциклопедия» богословия позволяет в определенной степени считать его одним из основателей отечественного основного богословия, поскольку согласно современной предметной структуре данной дисциплины вопрос о каноне богословских предметов в рамках осуществления общетеологической задачи, т. е. о том, как научно-теоретически и научно-практически следует правильно организовать богословскую деятельность, относится к первому подразделу четвертого раздела основного богословия — «De locis theologicis», или «Вера и разум»3.
Основное богословие у свт. Филарета не было выделено в качестве самостоятельной богословской науки. Это объясняется тем, что сам процесс ее формирования как специальной научной дисциплины, занимающейся основами веры и основопола-ганием теологии, в то время еще не был завершен4.
В результате в тогдашнем академическом образовании России основное богословие было представлено под видом двух отдельных дисциплин: естественное богословие и общее введение в богословие. Первое, содержанием своим соответствующее первому разделу современного основного богословия «Demonstratio religiosa»5, было отнесено к наукам философским [Филарет Дроздов, 1885, 124] и преподавалось в первые два года обучения в рамках курса метафизики, т. е. до начала изучения собственно богословских наук6. Второе, как правило, предшествовало преподаванию догматического богословия, составляя предварительную его часть [Чистович, 1857, 277]. Это разделение основного богословия на две дисциплины сохранялось в столичной Академии вплоть до 1843 г., когда оно стало преподаваться иером. Макарием (Булгаковым) как отдельная дисциплина7.
Поначалу все богословские науки в Академии преподавались одним профессором, как правило, ее ректором. Впоследствии преподавание богословия было разделено между ректором и двумя бакалаврами: за ректором закреплялось догматическое богословие, за одним из бакалавров — нравственное богословие, за другим — все прочие богословские науки [Чистович, 1857, 309].
Преподавание основного богословия — «под названием общей богословии» [Барсов, 1883, 651] — вместе с богословием обличительным (сравнительным) свт. Иннокентий начал после своего назначения в 1824 г. бакалавром богословских наук в Санкт-Петербургскую духовную академию8.
Лекции свт. Иннокентия отличались глубокой продуманностью и излагались в строгой систематической связи, что позволяло студентам достаточно точно воспроизводить их в записи (см.: [Ростиславов, 1872, № 9, 174–175]). Составленные студентами краткие записки по преподаваемым свт. Иннокентием дисциплинам получили широкое распространение почти во всех семинариях, где впоследствии профессорствовали его ученики9.
Свт. Иннокентий, окончив свое служение в Санкт-Петербургской духовной академии и обретя славу образцового профессора, продолжил преподавание основного богословия в стенах Киевской духовной академии, став ректором последней.
В этот период богословская академическая наука достигла в Киеве небывалого расцвета. Это было время особенного оживления научной и учебной деятельности Академии, со стремлением к освобождению богословской науки от уз схоластики (см.: [Титов, 1895б, 28]). Свт. Иннокентий постоянно вникал в общий ход преподавания, следил за направлением и развитием академической науки, стараясь придать ей вид стройной и законченной системы. Проведенные им преобразования — переход в преподавании с латыни на русский язык, возвышение философских наук10, введение новых богословских дисциплин — позволили значительно укрепить Академию и возвысить ее значение в системе духовного образования России. Именно свт. Иннокентию «академическая богословская наука обязана расширением ее круга, с выделением из него новых специальных богословских отраслей в виде религиозистики (основного богословия), экклезиастики (об учении, богослужении и управлении Церкви), сравнительного богословия и др.» [Титов, 1915, 365].
Свт. Иннокентий за период своего ректорства, будучи ординарным профессором, преподавал три дисциплины: основное и догматическое богословие (1831–1833), нравственное богословие (1833–1835) [Богданова, Литвинова, 2009, 687]. Однако главная его заслуга состоит в том, что основному богословию, названному им «рели-гиозистикой», свт. Иннокентий сообщил совершенно новое, неизвестное до него направление (см.: [Буткевич, 1887, 84]). Ранее, до свт. Иннокентия, и в Киевской духовной академии, и во всей отечественной духовно-академической науке основное богословие не имело статуса самостоятельной богословской дисциплины. Как уже отмечалось, в системе богословского образования России оно было представлено только в виде незначительного пропедевтического трактата, содержащего предварительные сведения о богословской науке как таковой, а также частично в рамках курса метафизики, при изучении философских дисциплин. Свт. Иннокентий, пользуясь своей властью ректора Академии, впервые вводит основное богословие в кур-рикулум высших духовных школ, институциализируя его как специальную богословскую дисциплину.
Первые публикации свт. Иннокентия по основному богословию относятся к петербургскому периоду его научно-преподавательской деятельности. В журнале «Христианское чтение» за 1824–1830 гг. было напечатано несколько статей, соответствующих по своему содержанию тематике основного богословия, авторство которых с большой долей вероятности может быть приписано святителю11. Таковой, без сомнения, может считаться опубликованная в 1824 г. статья «О бытии Божием» (Иннокентий Борисов, 1824, 147–255). По свидетельству Л. С. Мацеевича, в письме к Белюгову от 26 сентября 1824 г. свт. Иннокентий пишет: «В Христ. Чтении действительно я участвую по силам.
Статьи о бытии Божием и некоторые другие (курсив Мацеевича. — свящ. Д. Л. ) принадлежат мне» [Мацеевич, 1883, 657].
Статья «О бытии Божием» посвящена исследованию традиционной для основного богословия теме — доказательствам существования Бога. В ней свт. Иннокентий последовательно рассматривает вопросы исторического объяснения всеобщности и неизменности веры в Божественное бытие (историческое доказательство), критически изучает силу и достоинство традиционных (телеологического, онтологического, нравственного) аргументов в пользу существования Бога и, наконец, предлагает собственные, «действительнейшие практические способы удостоверения в сей истине, и надежнейшее средство к предохранению себя от неверия» (Иннокентий Борисов, 1824, 147–148).
Критерии для установления авторства свт. Иннокентия в отношении «некоторых других» статей следующие: 1) соответствие статей тематическим разделам основного богословия; 2) демонстративный (доказательный) стиль изложения, характерный для его текстов по основному богословию; 3) отсутствие в исторических источниках упоминаний о других преподавателях основного богословия в Санкт-Петербургской духовной академии в рассматриваемый период, которые могли бы претендовать на авторство публикаций.
Таким образом, к «некоторым другим» публикациям, которые с большой долей вероятности могут принадлежать перу свт. Иннокентия, можно также отнести следующие:
-
1. Соответствующие второму разделу основного богословия «Откровение»: «Основание веры в Откровение», «О необходимости чудес», «О Божественных откровениях», (Иннокентий Борисов, 1826, 216–245; Иннокентий Борисов, 1830б, 212–308; Иннокентий Борисов, 1830в, 309–342);
-
2. Соответствующие третьему разделу «Церковь»: «Излияния сердца при размышлении о Божественности христианской веры», «Иисус Христос послан от Бога» (Иннокентий Борисов, 1825, 51–97; Иннокентий Борисов, 1830а, 152–162);
-
3. Соответствующая четвертому разделу «Богословское учение о познании», или «Вера и разум»: «О преданиях, как источнике религии» (Иннокентий Борисов, 1829, 314–367).
Безусловно, окончательное установление авторства данных публикаций возможно только в результате специального и тщательного исследования, которое, в свою очередь, может быть произведено лишь после детальной аналитической проработки курса лекций по основному богословию свт. Иннокентия.
Курс лекций по основному богословию свт. Иннокентия
Впервые конспект лекций по основному богословию был представлен свт. Иннокентием ко времени проведения в Киевской духовной академии декабрьских экзаменов 1833 г. Курс состоял из трех частей: 1) prolegomena in theologiam universam (введение в богословие вообще); 2) doctrina de religione in genere (учение о религии вообще); 3) doctrina de religiona christiana in genere (учение о христианской религии вообще) (см.: [Ястребов, 1900, 529–532]). Как отмечает М. Ф. Ястребов, конспект свт. Иннокентия значительно отличался от программы архим. Моисея (Богданова) — первого ректора преобразованной в 1819 г. Академии, читавшего «Общее введение в богословие» как вводную часть к преподаваемой им «Догматике» — более ясным и логичным изложением материала, а также лучшим знакомством автора с тогдашней систематикой богословских наук (см.: [Ястребов, 1900, 532–537]).
Печатный вариант лекций свт. Иннокентия впервые увидел свет в 70-х гг. XIX в. в изданном В. О. Вольфом полном собрании сочинений святителя12.
По своей структуре лекции свт. Иннокентия состоят из трех традиционных разделов (или трактатов) основного богословия: «О религии вообще» (Иннокентий Борисов, 1908а), «О религии откровенной» (Иннокентий Борисов, 1908б) и «О религии христианской» (Иннокентий Борисов, 1908в). Как видно, от первоначального варианта они отличаются отсутствием вводной части, а также тем, что учение об Откровении, раннее входившие в раздел «О религии вообще», обрело самостоятельный статус.
Первый раздел посвящен преимущественно религиологической проблематике. Рассматривая вопросы о сущности и происхождении религии, свт. Иннокентий ставит для себя цель показать недостаточность естественной религии и тем самым обосновать необходимость религии откровенной. Сообразно поставленной цели данный раздел представлен двумя частями: 1) религия сама по себе и 2) религия по своему внутреннему достоинству . Отметим, однако, что достаточно существенный объем первой части посвящен проблемам богословского познания, которые, согласно предметной структуре современного основного богословия, относятся к четвертому разделу «Богословское учение о познании», или «Вера и разум».
Во втором разделе автором предпринимается попытка рационального обоснования возможности и необходимости Откровения, выявляются существенные признаки, определяющие его подлинность, а также способы его сохранения и передачи. В соответствии с этим данный трактат делится на три части: 1) об Откровении вообще;
-
2) о признаках истинного Откровения; 3) о способе сохранения откровенной религии.
Третий раздел, подобно первому, состоит из двух частей: 1 ) Божественное происхождение христианской религии, где автор производит «беспристрастное обозрение христианства» (Иннокентий Борисов, 1908в, 115) на предмет соответствия его внешним и внутренним признакам истинного Откровения, выявленным в предыдущем разделе; 2) состав христианской религии, посвященный рассмотрению следующих вопросов: истины христианского Откровения и начала логического мышления, христианство и другие религии, христианство и политика, различные виды христианства, отличие православия от католичества и протестантизма.
Рассмотрим подробнее первый раздел «О религии вообще», который сам свт. Иннокентий называет собственно философским, прокладывающим путь к богословию христианскому.
Начинается первая часть раздела с определения понятия религии, где автор приводит в оригинале три традиционные версии (Цицерона, Лактанция и блж. Августина) происхождения слова religio. Далее, определив религию как «отношение человека к Богу и Бога к человеку» (Иннокентий Борисов, 1908а, 16), свт. Иннокентий переходит к рассмотрению вопроса о ее происхождении как с исторической, так и с философской точек зрения.
По свт. Иннокентию, исторический опыт бытия человечества позволяет говорить: 1) о всеобщности религии, что, в свою очередь, указывает на ее необходимый, а не случайный характер; 2) о разнообразии понятий о Высочайшем Существе у разных народов; 3) о наличии некоторых общих и неизменных черт религиозных представлений, к которым можно отнести признание существования невидимого мира, зависимость от высшего Существа и веру в загробное существование (см.: (Иннокентий Борисов, 1908а, 17–19)). При этом исторически объяснить возникновение религии и ее всеобщность не представляется возможным, поскольку история не знает нерелигиозного состояния человечества и в конечном итоге вынуждена указывать на сверхъестественную причину происхождения религии, а это, в свою очередь, неудовлетворительно для ума, который «ищет ясных и твердых познаний» (Иннокентий Борисов, 1908а, 19). С другой стороны, редукционистские теории происхождения религии, весьма кратко рассматриваемые свт. Иннокентием, также оказываются несостоятельными, поскольку предлагают случайные причины ее возникновения.
Следующий вопрос, который находит подробное освещение в первом отделении первой части, — вопрос о сущности религии. Свт. Иннокентий, рассматривая религию как союз между Богом и человеком — выделяя при этом в последнем три душевные способности: разумную, деятельную и чувственную, которые называет тремя нитями, или узлами, связывающими человека с Богом, — определяет сущность религии с психологической точки зрения как гармонию между истиной, добродетелью и наслаждением (см.: (Иннокентий Борисов, 1908а, 34)). Свт. Иннокентий подчеркивает необходимую включенность в процесс религиозной веры всех душевных сил человека: «ум связует человека с Богом стремлением к истине; воля — святостью; а чувство — стремлением к совершенному наслаждению» (Иннокентий Борисов, 1908а, 34). Таким образом, религия как предмет ума состоит в познании Бога, как предмет воли есть стремление к познанному и желание уподобления Богу, как предмет чувств — наслаждение тем, что познано. При этом основой религии является истина, а ее выражением — добродетель и услаждение (см.: (Иннокентий Борисов, 1908а, 55)).
Существенными элементами религии свт. Иннокентий признает: 1) Бога, как существо совершеннейшее; 2) будущую жизнь и 3) самого человека, как существо, способное мыслить, действовать и чувствовать (см.: (Иннокентий Борисов, 1908а, 36)).
Переходя к рассмотрению первого элемента, свт. Иннокентий особое внимание уделяет гносеологической проблематике, подробно рассматривая вопросы об источниках и сущности знания о Боге, а именно: о способах и характере нашего познания Бога, насколько оно твердо, нужны ли доказательства его достоверности; о том, что есть Бог, каким Он открывает Себя нашему познанию, имеем ли мы понятия о Нем, соответствующие Его природе, и т. п.
С точки зрения философии свт. Иннокентий признает три источника познания: чувства, рассудок и разум. К последнему он относит идеи ума, на основании которых возникает разумная вера в предметы, превышающие интеллектуальное разумение. Эта вера тверже и несомненнее всякого другого познания (см.: (Иннокентий Борисов, 1908а, 36)).
По свт. Иннокентию, если рассматривать чувственное восприятие не только как работу органов внешних чувств, но и как внутреннее сердечное переживание, то оно вполне может быть признано одним из источников познания Бога. Если религия есть действительный союз между Богом и человеком, который должен предполагать реальное соприкосновение одного с другим, то в этом случае «бытие Божие чувствуется сердцем: оно наполняется иногда такими чувствованиями, которые не имеют никакого отношения ни к какому внешнему предмету» (Иннокентий Борисов, 1908а, 36–37). В рамках работы данной гносеологической способности не требуется дальнейших доказательств — бытие Божие здесь аксиома (см.: (Иннокентий Борисов, 1908а, 37)).
Ум или разум, как высшая степень душевной деятельности, также является надежным источником познания Бога. Для него бытие Божие несомненно и не требует никаких доказательств, поскольку «при первом взгляде на мир он находит все случайным, условным и обращается прямо к Богу, Коего бытие безусловно и необходимо… видя, что Бог есть основа всего, он во всем видит Бога и скорее усомнится в бытии вещей, нежели в бытии Его» (Иннокентий Борисов, 1908а, 38).
Следующая гносеологическая проблема, которую подробно рассматривает свт. Иннокентий, — о сущности и достоверности нашего знания о Боге. Здесь он выделяет три возможных варианта ее решения: 1) Бог полностью познаваем; 2) Он совершенно непостижим; 3) Он отчасти постижим, а отчасти — превышает всякое разумение.
В противовес идее абсолютного познания Божества — сторонниками которой он называет Евномия и некоторых представителей немецкой философии — свт. Иннокентий, опираясь на святоотеческую традицию — а именно на мнения свт. Григория Богослова и автора Ареопагитик, — делает вывод о том, что природа Божественная превышает всякие о ней человеческие представления, что существо Его для нас необъятно и непостижимо (см.: (Иннокентий Борисов, 1908а, 42–43)). «Никакие абстракты, — пишет свт. Иннокентий, — нимало не выражают существа Божеского, поскольку все наши понятия, какие мы только составляем о Боге, суть отрицательные и непременно имеют какую-нибудь примесь из опыта» (Иннокентий Борисов, 1908а, 42).
Тем не менее, свт. Иннокентий настаивает на том, что внутренний путь самопознания нашего духа, но «не с внешней и низшей стороны его, как рассматривает его рассудок, дабы по свойствам его составить образ Божества, а с внутренней и высшей, откуда можно заимствовать черты чистейшие и возвышеннейшие… есть удобнейшее средство приблизиться к познанию Бога и составить о Нем вернейшее понятие» (Иннокентий Борисов, 1908а, 43).
Свт. Иннокентий убежден: хотя Божественные свойства и остаются для нас непостижимыми, рассмотрение их отражения в нашем духе способно привести нас к пусть ограниченному, но познанию Бога. К таким Божественным атрибутам, понятие о которых формируется путем исследования начал человеческого духа, он относит независимость (или бытие от себя (лат. aseitas )), всемогущество, вездесущее, вечность и творчество (см.: (Иннокентий Борисов, 1908а, 43–44))14.
Предложив, как наиболее достоверный, антропологический способ познания Бога, свт. Иннокентий переходит к рассмотрению второго существенного элемента религии — бессмертия души, задаваясь вопросом о том, может ли данная истина быть предметом разумной веры и даже знания? Отвечая на поставленный вопрос, он подробно разбирает аргументы pro et contra рационального обоснования истины бессмертия души. К отрицательным, или скептическим, доводам свт. Иннокентий относит: 1) происхождение души во времени вместе с телом; 2) ежедневный сон как отсутствие разумной жизни; 3) ослабление душевных сил, происходящее от ослабления сил телесных; 4) случаи расстройства души (сумасшествия) при некоторых болезнях (см.: (Иннокентий Борисов, 1908а, 47–50)).
В числе положительных доводов, представляющих собой логические обоснования бессмертия, свт. Иннокентий выделяет умозаключения теоретического, практического и аналогического характера, которые позволяют сделать истину бессмертия не только предметом разумной веры, но и достоянием сознания и предметом опытного ощущения (см.: (Иннокентий Борисов, 1908а, 50–54)).
В рамках рассмотрения третьего элемента религии — человека, свт. Иннокентий вновь указывает на участие всех душевных человеческих способностей, обращая при этом особое внимание на крайности одностороннего понимания ее сущности только как предмета ума, воли или чувства (см.: (Иннокентий Борисов, 1908а, 55–57)).
Вторая часть первого раздела — религия по внутреннему достоинству своему — посвящена рассмотрению вопроса о достаточности или недостаточности естественной религии. Другими словами, свт. Иннокентий говорит о том, «может ли естественная религия довести людей до той цели совершенства, к которой они предназначены, т. е. может ли привести их к истине, исправить их в нравственность, доставить им блаженство?»
Следуя своей методике, свт. Иннокентий решает обозначенную им проблему с двух сторон — исторической и философской. В историческом аспекте несостоятельность естественной религии для него вполне очевидна как с теоретической, так и с практической точки зрения: «со стороны умозрительной в ней недоставало многих существенных религиозных истин, напротив, она обезображивалась многими заблуждениями и суеверными мнениями. Со стороны нравственной она также не знала многих добродетелей, таких как самоотвержение и терпение, составляющих основание истинной добродетели» (Иннокентий Борисов, 1908а, 63). Даже лучшие представители античного мира — Сократ, Платон, Аристотель и Цицерон — «не смогли представить человечеству не только образца, но и признаков религии истинной и всеобщей» (Иннокентий Борисов, 1908а, 68). Подобным образом свт. Иннокентий рассматривает и философию Нового времени. Высоко оценивая учения Канта, Фихте и Шеллинга, называя их «тремя отличнейшими философами» (Иннокентий Борисов, 1908а, 71), свт. Иннокентий — несмотря на наличие у них некоторых общих мест, содержащих полезные и нравственные истины, — считает, что «они не могут быть наставниками человечества, ибо ни одна из их систем не может обратиться в религию… системы их имеют цену школьную, как они сами это признавали» (Иннокентий Борисов, 1908а, 69).
Рассмотрение проблемы с философской стороны свт. Иннокентий начинает с опровержения гипотезы о возможности достижения совершенства естественной религии благодаря развитию умственных способностей человечества. Прежде всего он выдвигает тезис «о насаждении религии Богом» (Иннокентий Борисов, 1908а, 70), который обосновывает от противного, на основании отсутствия исторического объяснения возникновения религии как таковой (зафиксированного момента ее начала в истории человечества). На основании этого свт. Иннокентий делает вывод о том, что если религия источником своим имеет Бога, то и дальнейшее ее сохранение и развитие должны также зависеть от Него (см.: (Иннокентий Борисов, 1908а, 71–72)).
Другим аргументом в поддержку необходимости восполнения естественной религии Откровением свт. Иннокентий считает слабость и несовершенство человеческого разума, который «никогда не может быть совершенно уверенным в соответствии своих представлений с свойствами предметов» (Иннокентий Борисов, 1908а, 72). Это заставляет философов всегда колебаться в своих умозрениях, основанных на достоверности собственных понятий и идей, и потому разум неминуемо требует подтверждения в религиозных истинах, им определенных, посредством какого-то внешнего свидетельства (см.: (Иннокентий Борисов, 1908а, 72)).
Наконец, последний недостаток естественной религии, состоящий в невозможности дать удовлетворительное объяснение происхождению в мире зла, является, вместе с ранее изложенными доводами (о происхождении, развитии и достоверности), достаточным основанием необходимости Божественного Откровения (см.: (Иннокентий Борисов, 1908а, 73–75)).
Значение фундаментально-теологического наследия свт. Иннокентия
Вклад свт. Иннокентия в развитие отечественной богословской науки оценивается в церковно-исторической и богословской литературе по-разному. Профессор основного богословия Харьковского императорского университета прот. Т. Буткевич (1854–1925) связывает с именем свт. Иннокентия само зарождение основного богословия в России, считая владыку основоположником преподавания в духовных академиях данного предмета как отдельной богословской дисциплины: «Иннокентий, можно сказать, сам создал эту науку, которая, по его указанию, должна была углубиться в самые основания, определить самые основные начала богословству-ющей мысли, утвердясь на которых можно было бы уже восходить к разумному и целостному изучению всей совокупности богословских предметов, гармонически распределяющихся в целой системе» [Буткевич, 1887, 85].
Профессор Санкт-Петербургской духовной академии Н. И. Барсов (1839–1903) связывает с именем свт. Иннокентия начало нового этапа развития русского богословия — этапа его обновления и оживления, со стремлением освобождения от господствовавшего в тогдашней церковной науке формализма и схоластики: «В ту эпоху новаторства в богословии, когда такие сильные умы, как Иннокентий и Павский, делали новые опыты в его постановке, стараясь дать православному богословию более самостоятельный вид и освободить его от полукатолических латинских компендиумов, основать его непосредственно на первоисточниках, Св. Писании и творениях святоотеческих, не без пособия сочинений протестантских, — нужно было делать эти опыты в высшей степени осторожно, чтобы не возбудить превратных толков и не скомпрометировать православной духовной школы этими опытами введения научности в богословии» [Барсов, 1883, 648]. Также Н. И. Барсов отмечает, что новаторство свт. Иннокентия в области богословия было направлено преимущественно на выработку нового метода богослов-ствования — менее схоластичного по изложению и более жизненного по задачам и направлению. Для этого свт. Иннокентий обращается к литературе т. н. ортодоксального протестантизма, в которой обнаруживает новый, более научный апологетический элемент, отсутствовавший в традиционном католическом богословии, занимавшемся лишь простой интерпретацией символа в схоластической форме системы [Барсов, 1884, 188–189]. При этом, считает Н. И. Барсов, «никакой измены православию не было… все воззрения германских экзегетов и богословов Иннокентий пропускал через горнило критики и вполне самостоятельного отношения к протестантской литературе, при непосредственном изучении первоисточников православия» [Барсов, 1884, 189]. В конечном итоге, по мнению Н. И. Барсова, именно благодаря усилиям свт. Иннокентия свое начало в России получают «три богословские науки, им созданные, от него получившие определение и первое осуществление, — богословие основное, обличительное и практическое» [Барсов, 1884, 189]. Что касается основного богословия, то здесь Н. И. Барсов обнаруживает прямое влияние свт. Иннокентия на формирование курсов прот. Федора Голубинского (1797–1854) и прот. Федора Сидонского [Барсов, 1884, 189], с именами которых, в свою очередь, можно связать становление данной дисциплины, соответственно, в Московской духовной академии и Санкт-Петербургском университете.
Д. И. Ростиславов (1809–1877), подчеркивая общую заслугу свт. Иннокентия в деле становления основного богословия в России, отмечает, что, хотя его лекции по основному богословию спустя сорок лет со времени их написания и прочтения уже не покажутся образцовыми и никого не удивят, но в бытность свт. Иннокентия профессором они были отважным подвигом, требующим большой смелости, чтобы решиться читать их в Академии, поскольку они резко отличались от всего того, что читалось прежде, особенно если учитывать, что свт. Иннокентий смело касался рационалистических идей, конечно же, оценивая и критикуя их, но не ратуя против них, как фанатик (см.: [Ростиславов, 1872, № 9, 175])15.
В то же время сохранились и весьма критические оценки богословия свт. Иннокентия. Так, прот. Георгий Флоровский (1893–1979) достаточно скептически отзывается о богословском наследии свт. Иннокентия, считая последнего представителем «немецкого» направления в русской богословской науке, которое наиболее сильно было представлено в Санкт-Петербургской духовной академии. В известном смысле такое западничество, по о. Георгию, было неизбежным явлением духовного образования того времени, поскольку первой задачей преподавателей было введение в русский школьный оборот современного научного и учебного материала западных богословских школ. Как ни труден и опасен был этот этап становления русского богословия, поскольку западничество выражалось не только в самом богословии, но и во внутреннем самоощущении, в некоем самовключении его представителей в немецкую традицию, он был неизбежен и должен был быть пройден [Флоровский, 1991, 196, 199, 201].
Помимо несамостоятельности богословия свт. Иннокентия прот. Георгий Флоров-ский отмечает также и поверхностный его характер. Несмотря на то, что «Иннокентия самого всегда больше интересовала философия, мыслителем он не был. Это был ум острый и восприимчивый, но не творческий. Исследователем Иннокентий никогда не был. Он умел завлекательно поставить вопрос, вскрыть вопросительность в неожиданной точке, захватить внимание своего читателя или слушателя, с большим увлечением и блеском пересказать ему чужие ответы. Только блестящая манера изложения маскирует этот всегдашний недостаток творческой самодеятельности. Но всегда это именно изложение только, никогда исследование» [Флоровский, 1991, 197]. Именно в красноречии видит о. Георгий разгадку влияния и успеха свт. Иннокентия как профессора богословия, которого «читать и теперь еще интересно, — слушать было еще интереснее, конечно» [Флоровский, 1991, 198]. Объяснение же смелости богословия свт. Иннокентия о. Георгий видит в его «спекулятивной безответственности, от того, что идет он по поверхности» [Флоровский, 1991, 198].
Митрополит Макарий (Булгаков; 1816–1882), при всем искреннем уважении к свт. Иннокентию, с которым его связывала многолетняя дружба, все же отмечает: несмотря на то, что святитель был образцовым профессором, пробуждавшим и увлекавшим своими вдохновенными импровизациями умы своих слушателей, «по самому складу и настроению своих способностей, он не произвел и не мог произвести эпохи в науке, которую преподавал; он не продвинул ее вперед, он даже вовсе ее не обработал… Лекции его не показывают ни широкого, ни самостоятельного взгляда на целую область науки, не везде запечатлены зрелостью и основательностью, и вовсе не отличаются богатством положительных сведений. В лекциях виден богослов со светлым умом, богослов-мыслитель, но не видно того, что называется христианским глубокомыслием и богословской ученостью… Не наука, как бы она ни близка была знаменитому иерарху, а искусство, высокое искусство слова: вот в чем состояло его истинное призвание» [Макарий Булгаков, 1867, 37].
Доводы, представленные критиками, в определенной степени можно считать справедливыми. Действительно, при рассмотрении лекций свт. Иннокентия можно обнаружить ряд недостатков, касающихся главным образом неполноты и поверхностности изложения материала. Так, например, полностью отсутствуют весьма важные для основного богословия темы — об отношении религии к основным сферам практической деятельности человека (науке, нравственности и эстетике); о сущности и происхождения зла; философское обоснование теизма в рамках критики деизма и пантеизма. Мимоходом рассматриваются и критикуются атеистические теории происхождения религии. Хотя свт. Иннокентием и определено отношение к т. н.
доказательствам бытия Божия — которые он называет путями, или доводами, — сами эти доводы в тексте не представлены.
Напомним, что достоверным свт. Иннокентий считает и чувственное познание Бога как наличие особенных внутренних сердечных переживаний Его присутствия, несомненно убеждающих человека в Его бытии. Однако никаких критериев, которые позволили бы определить достоверность этих чувствований, свт. Иннокентий не предлагает.
В то же время очевидны и несомненные достоинства курса свт. Иннокентия. К таковым следует отнести: неплохо сбалансированную общую структуру, содержащую материал всех четырех традиционных разделов основного богословия (хотя и с некоторым нарушением систематизации: так, материал четвертого раздела помещен в первый); подробное освещение проблемы богопознания, в рамках решения которой свт. Иннокентий предлагает собственную гносеологическую теорию, пусть и не до конца разработанную.
В самом деле, в рассуждениях своих свт. Иннокентий порой отходит от требуемого основным богословием порядка строгой логической аргументации и выступает уже как проповедник, позволяя себе суждения нравственно-назидательного характера. Однако это может быть объяснено своеобразным методом его богословствования, состоявшим, по словам прот. Ф. Титова, «в стремлении к разумному и целостному восприятию откровенной истины посредством сердечного постижения ее во всей ее небесной чистоте и благодатной силе» [Титов, 1915, 365]. Богооткровенные истины свт. Иннокентий излагал «в такой оригинальной конструкции, с такими сравнениями и объяснениями, в таком искусном освещении, что его лекции казались чем-то совершенно новым, оригинальным, неожиданным и потому поразительным» [Титов, 1915, 365].
Не вполне обоснованным выглядит упрек о. Георгия Флоровского в увлечении свт. Иннокентия философией. Во-первых, знание философской проблематики является необходимым методологическим условием плодотворной фундаментальнотеологической работы. (Напомним, что основное богословие, направленное на аргументированное (философское) обоснование разумности христианской веры, в своем методе стремится к соблюдению строгой логической последовательности при изложении содержания Богооткровенных истин.) Во-вторых, свт. Иннокентий, хорошо зная современную ему немецкую философию, действительно использует некоторые идеи ее представителей, преимущественно Фихте16, для разработки собственных богословских воззрений, однако творческая рецепция актуальной философии своего времени — дело вполне обычное для христианского богословия. Трудно представить, как могло бы развиться — и состоялось ли бы вообще! — богословие свтт. Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского и других представителей святоотеческой традиции без использования ими понятийного аппарата античной философии как вспомогательного инструментария для выражения своих богословских взглядов.
Не вполне справедливым можно считать и замечание митр. Макария (Булгакова) об отсутствии влияния основного богословия свт. Иннокентия на последующее развитие данной дисциплины. Так, можно с определенной долей уверенности говорить о поддержке позиции свт. Иннокентия по вопросу значения доказательств существования Бога профессором Московской духовной академии прот. Федором Голубинским, находившимся с ним в дружеских отношениях [Буткевич, 1887, 114]. Прот. Федор, считая истину бытия Божия аксиомой нашего сознания (axioma conscientiae), отрицал, подобно свт. Иннокентию, возможность теистических доказательств, полагая, что они не могут быть первыми основаниями идеи Бога, а только лишь доводами, которые, однако, имеют важное апологетическое значение, поскольку способствуют раскрытию этой истины, препятствуют ее искажению и превратному пониманию (см.: [Голубинский, 1868, 20–24]).
Следует особо отметить, что дальнейшее развитие в отечественной богословской науке получает намеченный свт. Иннокентием путь исследования проблемы богопо-знания через изучение природы самосознания. Заложенный им т. н. антропологический принцип богопознания спустя полвека разрабатывается еп. Михаилом (Гриба-новским) и В. А. Снегиревым.
Профессор Казанской духовной академии В. А. Снегирев (1841–1889) подобно свт. Иннокентию считал, что идея Бога является составной частью процесса нашего самосознания, логически необходимой, а потому и неустранимой. Он полагал, что человек, как нечто единое, определенное, мыслящее, свободное, но при этом ограниченное и конечное, следуя основному закону своей мысли, неминуемо приходит к идее существования Личности безграничной и бесконечной, а потому всемогущей, которую он по самому содержанию этой идеи противополагает себе как реально и вне себя сущее (см.: [Снегирев, 1893, 600]).
Еп. Михаил (Грибановский; 1856–1898), преподававший основное богословие в столичной Академии в 1884–1890 гг., исследуя природу самосознания, формирует новый «субъективный» метод фундаментально-теологической работы, который применяет для доказательства существования Бога (см.: [Михаил Грибановский, 1899, 48–50]).
В заключение заметим, что трудно представить, чтобы митр. Макарий (Булгаков) — будучи учеником ученика свт. Иннокентия, архиеп. Димитрия (Муретова), преподававшего в Киевской духовной академии с 1837 г. основное богословие под именем «Апологетика христианства»17 — сам, при создании первой отечественной системы основного богословия, был абсолютно изолирован от какого бы то ни было влияния на нее богословия своих предшественников…18
Таким образом, подводя итог нашему пока еще предварительному анализу фундаментально-теологического наследия свт. Иннокентия (Борисова), отметим, что указанные выше недостатки, вероятно, неизбежные при начале всякого делания, нисколько не умаляют общих заслуг святителя перед отечественной богословской наукой.
Как представляется, в дальнейшем для формирования полноценной характеристики богословского творчества свт. Иннокентия в области основного богословия потребуется 1) проведение тщательного анализа двух оставшихся разделов курса его лекций, 2) следующее за этим определение идентичности и установление авторства ранее опубликованных в журнале «Христианское чтение» предполагаемых работ святителя, соответствующих тематике данных разделов, 3) рассмотрение и изучение учения свт. Иннокентия о доказательствах существования Бога, изложенного им в статье «О бытии Божием». Весьма важным для дальнейшего исследования можно считать и учение о Божественных атрибутах, содержащееся в догматическом богословии свт. Иннокентия19.
Несмотря на предварительный и, следовательно, незавершенный характер настоящего исследования, полученные в ходе его результаты позволяют уже сейчас рассматривать курс лекций по основному богословию свт. Иннокентия как первый для отечественного духовно-академического богословия опыт специальной фундаментально-теологической работы, а его автора — считать родоначальником отечественного основного богословия, положившим основание для дальнейшего развития данной теологической дисциплины в духовных школах России синодального периода.