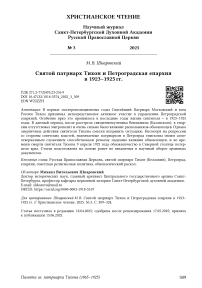Святой патриарх Тихон и Петроградская епархия в 1923–1925 гг.
Автор: Шкаровский М.В.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Памяти св. патриарха Тихона (1865–1925)
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
В первые послереволюционные годы Святейший Патриарх Московский и всея России Тихон принимал непосредственное активное участие в управлении Петроградской епархией. Особенно ярко это проявилось в последние годы жизни святителя — в 1923–1925 годы. В данный период, после расстрела священномученика Вениамина (Казанского), в епархии отсутствовал митрополит и очень сильно было влияние раскольниковобновленцев. Однако энергичные действия святителя Тихона смогли исправить ситуацию. Несмотря на репрессии со стороны советских властей, назначаемые патриархом в Петроград епископы своим самоотверженным служением способствовали резкому падению влияния обновленцев, и ко времени смерти святителя Тихона 9 апреля 1925 года обновленчество в Северной столице потерпело крах. Статья подготовлена на основе ранее не введенных в научный оборот архивных документов.
Русская Православная Церковь, святой патриарх Тихон (Беллавин), Петроград, епархия, советская религиозная политика, обновленческий раскол
Короткий адрес: https://sciup.org/140312311
IDR: 140312311 | УДК: 271.2-772(470.23-25)-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_3_309
Текст научной статьи Святой патриарх Тихон и Петроградская епархия в 1923–1925 гг.
15.06.2025.
В первые послереволюционные годы Святейший Патриарх Московский и всея России Тихон принимал непосредственное активное участие в управлении Петроградской епархией. Особенно ярко это проявилось в последние годы жизни святителя — в 1923-1925 гг. В данный период, после расстрела в 1922 г. сщмч. Вениамина (Казанского), в епархии отсутствовал митрополит и очень сильно было влияние раскольников-обновленцев. Однако энергичные действия свт. Тихона смогли исправить ситуацию.
На весну — начало лета 1923 г. пришелся пик репрессий против сторонников патр. Тихона, угроза нависла и над жизнью самого первосвятителя. Стал готовиться судебный процесс, который мог завершиться смертным приговором. 8 июня 1923 г. святитель был увезен из Донского монастыря во внутреннюю тюрьму ГПУ. Желая избежать судебного процесса, который неминуемо нанес бы сильный удар по православию, и стремясь сохранить верную традициям Русскую Церковь, 16 июня патр. Тихон подал заявление в Верховный Суд РСФСР с раскаянием в своей прежней «антисоветской деятельности» и с просьбой об освобождении из-под стражи (см. об этом: [Алексеев, 1997, 248–251; Савельев, 1997, 190–192]).
-
27 июня патр. Тихон был освобожден и вернулся к управлению Церковью. Рассекреченные в последние годы документы свидетельствуют, что основную роль в этом сыграла широкая кампания в странах Западной Европы с требованием прекращения насилия над патриархом: в тот период советское правительство, желая выйти из дипломатической изоляции, было вынуждено считаться с подобными протестами (см.: [Регельсон, 1977, 342]).
Сразу же после освобождения патриарха по всей стране начался чрезвычайно быстрый спад влияния обновленцев и массовое возвращение верующих и духовенства под окормление первосвятителя (РГАСПИ. Ф. 89. Оп. 4. Д. 118. Л. 19). 1 июля 1923 г. патр. Тихон подготовил специальное послание, а 15 июля сделал публичное заявление о своем возвращении к управлению Российской Церковью и о признании ничтожными всех действий обновленческого Высшего церковного управления [Акты Святейшего Тихона, 1995, 190]; (РГАСПИ. Ф. 89. Оп. 4. Д. 118. Л. 20). К сер. 1923 г. движение обновленцев резко пошло на спад, число их приходов многократно сократилось, сотни клириков стали с покаянием возвращаться к первосвятителю.
Вскоре после освобождения патр. Тихон занялся и церковными делами в городе на Неве. В июле 1923 г. последовал указ первосвятителя о возведении в ранг петроградского собора Вознесенского храма на Вознесенском пр. Ситуация в Северной столице сильно осложнялась тем, что в результате репрессий в городе не осталось ни одного канонического архиерея Русской Православной Церкви. Пользуясь этим, обновленцы продолжали господствовать в церковной жизни города.
-
10 июля под влиянием обновленцев собрание духовенства и прихожан Петроградской епархии приняло следующую резолюцию об отношении к патр. Тихону: «Принимая во внимание чрезвычайную сложность и запутанность положения Церкви в связи с освобождением из-под стражи Патриарха Тихона, общее собрание духовенства и представителей мирян Петроградской епархии в количестве 396 человек (268 — духовенство и 128 — мирян) постановило: воздержаться от определения каких-нибудь новых отношений к быв. Патриарху Тихону до решения его дела в гражданском отношении в Верховном суде СССР и пересмотре его дела в церковном отношении на следующем Соборе с участием самого быв. Патриарха Тихона, согласно 74 апостольского правила, кем бы таковой не был созван, высказать настойчивое пожелание, чтобы означенный Собор епископов состоялся в самом скором времени и, чтобы быв. Патриарх Тихон имел полную возможность пригласить на него всех епископов, ему известных, так как только новый Собор епископов может в окончательной форме решить вопрос, как о Соборе 1923 г., так и о положении в Церкви самого быв. Патриарха Тихона (4 и 12 правила Антиохийского собора). Сообщая о сем, Петроградское епархиальное управление просит объявить означенную резолюцию вверенную вам духовенству и приходу путем широкого устного
и письменного оповещения и через расклейку у дверей храмов» (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 204. Л. 5–5 об.).
Хорошо понимая важнейшее значение Петроградской епархией, первосвятитель уже 3 августа назначил на эту кафедру проживавшего в Москве без права выезда освобожденного из заключения в марте 1922 г. еп. Гурия (Степанова). В распоряжении патриарха № 54, адресованном владыке Гурию, говорилось: «В заботах о благоустрое-нии Петроградской епархии и для удовлетворения ходатайств верующих — Временное Высшее Церковное Управление поручает Вашему Преосвященству вступить во временное управление православными приходами Петроградской епархии. Одновременно с сим поручается Вашему Преосвященству забота и архипастырское попечение и о православных приходах Псковской епархии».
Ознакомившись на месте с тяжелым положением Русской Православной Церкви в Петроградской епархии, еп. Гурий покинул Северную столицу, уехал в Псков и в город на Неве уже не вернулся. В обращении к патр. Тихону от 22 марта 1924 г. он писал: «По назначении его летом прошлого года, на Петроградскую кафедру в связи с попечением о приходах Пскова, вечером выехал к месту назначения, — а утром, по приезде в Петроград, — узнал о массовых арестах священников. По приезде во Псков, попал в полосу тоже массовых арестов». Сам владыка Гурий также был арестован в Пскове и провел в местной тюрьме в заключении четыре месяца. Когда епископ вышел на свободу, в Петроград уже был назначен новый управляющий епархией, и владыка Гурий вернулся в Москву (см. подр.: [Иоанн Лудищев, 2013]).
Между тем в Петрограде большинство стойких борцов с обновленцами считали самым достойным кандидатом во епископа возглавлявшего Спасское братство иером. Мануила (Лемешевского). Еще в июле дважды ездил в Москву по вопросу сбыта свечей ставший арендатором бывшего епархиального свечного завода активный член Александро-Невского братства Л. Д. Аксенов. Он, вероятно по инициативе этого братства, как старый знакомый и земляк патр. Тихона встретился с первосвятителем, рекомендовав назначить правящим архиереем в Петроград отца Мануила. Затем в Москву приехал протопресв. Александр Дернов, также просивший первосвятителя поставить епископом иером. Мануила. Патриарх согласился, но указал о. Александру предварительно поговорить с местным духовенством о кандидате в архиереи. Следует упомянуть, что имевший большой авторитет среди священнослужителей епархии о. Александр категорически отказался от сотрудничества с обновленческим Петроградским епархиальным управлением. Созванное в августе собрание православных священнослужителей Петрограда после обсуждения возможных кандидатур выбрало три самые достойные из них — иеромм. Мануила (Лемешевского), Варлаама (Сацердотского) и архим. Серафима (Протопопова), все они были руководителями православных братств (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-82582. Т. 5. Л. 393).
Из трех кандидатов патриарх выбрал иером. Мануила, который 21 сентября 1923 г. был возведен в сан архимандрита архиеп. Феодором (Поздеевским) в Даниловом монастыре, а 10 (23) сентября хиротонисан в Москве во викарного епископа Лужского с правом управления всей Петроградской епархией. При вручении архиерейского жезла владыке Мануилу после патриаршего служения в храме св. Димитрия Солун-ского на Благуше первосвятитель сказал памятные слова: «В этот момент Патриарх, опираясь на посох, произнес простые, но сильные слова, более выразительные, чем сотни самых витиеватых проповедей: „Посылаю тебя на страдания, ибо кресты и скорби ждут тебя на новом поприще твоего служения, но мужайся и верни мне епархию…“» [Регельсон, 1977, 346; Левитин, Шавров, 1977, 228].
Епископ Мануил выполнил наказ первосвятителя и вернул Петроградскую епархию канонической Русской Православной Церкви. Обновленческий раскол в Северной столице пошел на спад, и церковные приходы один за другим стали переходить в Московский Патриархат. Уже само прибытие 29 сентября еп. Мануила в Петроград поразило горожан. У поезда его встретили духовные дети, а также члены Александро-Невского и Спасского братств. И вдруг совершенно неожиданно раздался перезвон колоколов всех ближайших к Московскому вокзалу храмов, которые числились в ведении обновленцев. Духовенство Знаменской церкви, официально не признававшее патриарха, вышло в полном составе навстречу новому владыке. Повсюду толпы петроградцев встречали еп. Мануила с криками радости и слезами. По мнению некоторых очевидцев, ни один архиерей с самого основания города не видел такого восторженного поклонения.
-
4 октября по храмам было разослано первое послание к петроградской пастве с призывом оставить обновленческий раскол и последовать за патриархом. И уже в этом месяце три четверти приходов Петрограда присоединились к Патриаршей Церкви. В губернии дела обновленцев обстояли еще хуже (см.: [Иоанн Снычев, 1993, 251]). В начавшей вскоре выходить в Петрограде машинописной «Церковной хронике» сообщалось, что вечером 29 сентября, 4 и 11 октября еп. Мануил служил в церкви свв. Космы и Дамиана (куда патриарх назначил его настоятелем) и при этом пели соединенные хоры Спасского и Александро-Невского братств (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-82582. Т. 4. Л. 79).
-
13 октября скончался протопресв. Александр Дернов. Его отпевание 15 октября в Свято-Троицкой церкви на Стремянной ул. возглавил еп. Мануил, которому сослужили 144 архимандрита, протоиерея, иерея и 47 диаконов, что вылилось в «торжество Православия» в Петрограде. Отца Александра похоронили на Смоленском кладбище, могила его сохранилась (см. подр.: [Берташ, Цыганков, 2005]).
-
2 ноября 1923 г. было принято постановление патр. Тихона и Временного Патриаршего Синода о назначении управляющим Петроградской епархией активно боровшегося с обновленцами настоятеля Московского Данилова монастыря епископа Волоколамского Феодора (Поздеевского) с возведением в сан архиепископа «во внимание к его выдающейся деятельности на пользу святой Православной Церкви». Однако после некоторых размышлений этот архиерей ответил отказом, написав на обороте постановления: «Настоящую бумагу получил и прочитал с признательностью к Святейшему Патриарху и ВЦУ, но принять на себя изложенное в ней не могу — епископ Феодор. 21 [октября] / 3 ноября, Данилов монастырь». 8 ноября 1923 г. патр. Тихон и Синод постановили: «Преосвященного архиепископа Феодора освободить от управления Петроградской епархией, оставив его управляющим Московским Даниловым монастырем в сане архиепископа» [Зосима Давыдов, 2000; Акты Святейшего Тихона, 1995, 301].
После этого отказа временно управляющим Петроградской епархией остался еп. Мануил (Лемешевский). В октябре патриарх утвердил чиноприем обновленцев, принимаемых в Российскую Православную Церковь, в Петроградской епархии [Акты Святейшего Тихона, 1995, 302].
-
18 ноября 1923 г. последовало сообщение Святейшего Патриарха Тихона епископу Лужскому Мануилу о состоявшемся покаянии обновленческого «епископа Петроградского» Артемия (Ильинского). В этот день в Успенской церкви подворья КиевоПечерской Лавры еп. Мануил сообщил верующим: «Получено из Москвы от Патриарха Тихона сообщение о том, что на днях Петроградский епископ Артемий, нынешний председатель Петроградского Епархиального Управления [обновленцев], был с покаянием у Тихона и просил простить его за принадлежность к обновленческому движению, ссылаясь на то, что он, Артемий, был посвящен в епископский сан Патриархом Тихоном и сохранил к нему сыновние чувства. Тихон после продолжительной беседы заявил, что он лично прощает Артемия, но, по каноническим правилам, он должен быть предан епископскому суду за участие в Соборе 1923 года. Поэтому Артемий должен явиться к заместителю Тихона Илариону [Троицкому] и ожидать от него решения своей участи, на что Артемий дал принципиальное согласие^» [Акты Святейшего Тихона, 1995, 303].
Правда, через несколько дней еп. Артемий вступил в переписку с возглавлявшим обновленческий Священный Синод митр. Евдокимом (Мещерским) и взял свое раскаяние обратно, после чего был возведен обновленцами в сан «митрополита»
Петроградского (Красная газета (Петроград). 1923. № 276. 20 ноября (веч. вып.)). Однако это не помогло им укрепить свое положение в Северной столице.
Еще 11 ноября 1923 г. владыка Мануил отправил патриарху рапорт: «С чувством глубокой радости считаю долгом сообщить Вашему Святейшеству, что 15/28 октября Александро-Невская Лавра в полном составе братии принята в общение с Православной Церковью и Вами. В дальнейшем устроение ее духовной жизни и правильная постановка управления всей Лаврой зависит от ее духовного руководства. Таковым в период церковной разрухи стоял „соискатель чести“ Иоасаф [Журманов], получивший от ПЕУ1 звание настоятеля Лавры.
В данный момент, с восстановлением в правах наместника Лавры преосвященного Николая [Ярушевича], епископа Петергофского, ныне в изгнании пребывающего в Усть-Куломе Зырянского края, создается крайняя необходимость возглавить Лавру лицом авторитетным, новым, монашеского и монастырского уклада, опытным в духовной жизни, с правами викарного епископа Шлиссельбургского, управляющего Лаврой.
Лично мне известный с хорошей стороны и как отвечающий всем этим требованиям ризничий Даниловского монастыря отец архимандрит Григорий [Лебедев] изъявил свое согласие за св. послушание Церкви Христовой и для блага Лавры принять сие мое предложение.
Доводя до сведения Вашего Святейшества о всем вышеизложенном, покорнейше прошу не отказать в сем ходатайстве и, открыв новое викариатство — Шлиссельбургское, возглавить его архимандритом Григорием, как достойнейшим и желанным для Петроградской епархии» (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 203. Л. 16).
14 ноября патр. Тихон написал на этом послании резолюцию о назначении на Шлиссельбургскую кафедру архим. Григория (Лебедева) с поручением ему исполнять обязанности наместника Александро-Невской лавры и проведением наречения и хиротонии в Москве (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 203. Л. 16 об.).
Сам патриарх 2 декабря 1923 г. возглавил епископскую хиротонию архим. Григория. В памяти современников остались знаменательные слова свт. Тихона при назначении нового викария: «Посылаю вам жемчужину» (см. об этом: [Лебедев, 1990, 73–75; За Христа пострадавшие, 1995, 338–339]). Вскоре после хиротонии владыка Григорий прибыл в Петроград и внес существенный вклад в борьбу за чистоту православия. В дальнейшем он стал священномучеником.
11 ноября 1923 г. еп. Мануил (Лемешевский) обратился к Святейшему Патриарху Тихону с просьбой восстановить Охтенскую кафедру, так как считал, что новый единоверческий епископ сможет уменьшить вред, нанесенный обновленцами: «Горький опыт истекшего периода разрухи церковной жизни Петроградской епархии вынуждает меня ходатайствовать перед Вашим Святейшеством о восстановлении вдовствующей кафедры Охтенского викариатства Петроградской епархии. Возглавление ея в настоящий момент положит предел той смуте среди единоверцев, которая создалась у них за это время». В качестве кандидата владыка Мануил предложил «всеми любимого вдового протоиерея Н. Клементьева, 17 лет служащего в Охтенском соборе», и просил совершить хиротонию в Петрограде — «в интересах торжества православия». 27 ноября патр. Тихон утвердил это назначение и предполагал направить в Петроград для проведения хиротонии прот. Николая Клементьева архиеп. Петра (Полянского), но она не состоялась (см.: [Бовкало, 2004, 63]).
28 мая 1924 г. епископы Кронштадтский Венедикт (Плотников) и Шлиссельбургский Григорий (Лебедев) в своем рапорте повторно просили патр. Тихона рукоположить прот. Николая Клементьева во викарного епископа: «Викарий необходим в связи с тяжелыми условиями церковной жизни. Отзыв очень благожелательный. Просят назвать Охтенским, а не Тосненским, хотя Охтенский викарий единоверческий, но они в настоящее время не имеют своего кандидата и возможно временное использование этого титула». После принятия монашеского пострига будущий священномученик о. Николай Клементьев 23 июня был хиротонисан в Москве в православного епископа Сестрорецкого, викария Ленинградской епархии. Хиротонию возглавлял сам патр. Тихон (см. подр.: [Николай Клементьев, 2018, 222–224]).
При этом в 1924 г. ленинградскими общинами единоверцев, вернувшимися из обновленческого раскола в Московский Патриархат, все же вновь стал управлять единоверческий епископ. Еще 17(30) июля 1922 г. на Керженскую единоверческую кафедру Нижегородской епархии был рукоположен священноинок Павел (Волков). Поставление нового единоверческого епископа состоялось вскоре после ареста в мае 1922 г. Святейшего Патриарха Тихона и возникновения обновленческого раскола. Керженский владыка сохранял верность патриарху и активно содействовал преодолению влияния обновленцев. В августе 1923 г. преосвящ. Павел был принят патр. Тихоном, который признал законность хиротонии Керженского епископа (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 218. Л. 102).
В октябре 1923 г. еп. Павел был назначен на Вологодскую кафедру, но его назначение вскоре отменили. По-видимому, Керженский владыка хотел объединить под своим управлением все российские единоверческие приходы. 20 февраля 1924 г. под управление еп. Павла были переведены все единоверческие приходы Нижегородской епархии, а также Никольский собор и некоторые другие единоверческие храмы Ленинграда (см.: [Краткий очерк истории единоверия, 2014, 26]).
В резолюции патр. Тихона от 10(23) августа 1924 г. говорилось: «Благословляется Преосвященному Павлу епископу Керженскому иметь духовное попечение и управление единоверческими приходами, которые к нему обратятся, и для блага Церкви непосредственно сноситься с Патриархом всея России, на правах ставропигиального, „ибо нуждою времени и препятствиями в соблюдении точности не должны стесняемы быть пределы управления“ (37 правило 6-го Вселенского собора)» [Краткий очерк истории единоверия, 2014, 26]. Следует отметить, что в 1920-х гг. единоверческий епископат по своей воле перестал именоваться викарным, однако самостоятельной легальной иерархии он не образовал и в дальнейшем был фактически полностью уничтожен.
В начале 1924 г. казалось, что полная победа над обновленцами в Северной столице уже близка. 3 января еп. Мануил в своем рапорте патр. Тихону предложил: «В целях скорейшей ликвидации обновленческого движения в округе г. Колпина и его окрестностей и нанесения морального поражения обновленцам в лице одного из видных представителей сего течения настоятеля Колпинского собора протоиерея А. И. Боярского необходимо открыть в пределах Петроградской епархии новое вика-риатство Колпинское... Новому викарию предстоит большая деятельность: 1) в Петроградском уезде находятся наиболее крупные заводы окрестностей Петрограда; 2) уезд — центр чуриковщины»2.
В качестве кандидата для совершения хиротонии владыка Мануил указал благочинного монастырей и подворий епархии архим. Серафима (Протопопова), «…достигшего в текущем году законного числа лет на хиротонию в сан епископа, известного широким слоям населения города Петрограда как одного из стойких борцов за православие и с самой хорошей стороны в рабочих кругах у Невской заставы Петроградского уезда». 4 января патр. Тихон написал на рапорте резолюцию: «Разрешить открыть новое викариатство, хиротонию совершить в Петрограде». И 22 января о. Серафим был хиротонисан в сан епископа Колпинского (см. подр.: [Регельсон, 1977, 533, 537, 544, 556]).
В конце января 1924 г. был составлен проект обращения к Святейшему Патриарху Тихону от имени «представителей групп верующих и православных приходов г. Петрограда и Петроградской епархии»: «.сыновне просим внять нашей всепочтитель-нейшей нижеследующей просьбе: в виду наступающего окончания воссоединения церквей Петроградской Епархии под Ваше Святейшеское руководство и Главенство и, ревнуя о непоколебимости православной веры, для объединения и окончательного упрочения торжества православия в нашей Епархии, а также для противодействия возможным разным разногласиям и препятствиям, всеми нами почитаемому и верному, преданному слуге и сыну Вашего Святейшества, Преосвященному Мануилу епископу Лужскому, временно назначенному Вами управлять Петроградской Епархией, воздать и посвятить Его за беспримерные заслуги православию и для дальнейшего успешного ведения дела Православной Церкви твердой и авторитетной рукой, Преосвященного Мануила в сан архиепископа Петроградской Епархии». И первыми, согласно сохранившемуся проекту, это прошение должны были подписать представители Спасского и Александро-Невского братств (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-82582. Т. 4. Л. 82).
Однако сделать они это не успели. Советские власти в очередной раз пришли на помощь обновленцам. В ночь со 2 на 3 февраля 1924 г. в городе на Неве по указанию выехавшего туда начальника «церковного» отдела ГПУ Е. А. Тучкова были арестованы несколько десятков человек — сам еп. Мануил и его ближайшие помощники в борьбе с обновленчеством, в том числе еп. Серафим (Протопопов) (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-82582. Т. 1. Л. 2–3); [Регельсон, 1977, 351; Карпычева, 2000, 81].
В обвинительном заключении делался вывод, что после приезда «посланника Тихона — Мануила» «начала оживляться контрреволюционная деятельность части духовенства и других лиц из бывших дворян и военных», и все обвиняемые «под флагом Церкви старались вести контрреволюционные дела, настраивать массы на рабоче-крестьянское правительство». Следствие продолжалось почти девять месяцев, затем 26 сентября 1924 г. Особое совещание при Коллегии ОГПУ вынесло свой довольно суровый по тем временам приговор. Из 42 обвиняемых 9 приговорили к 3 годам концлагеря, в том числе Л. Д. Аксенова и еп. Мануила; 26 — к 2 годам концлагеря, среди них еп. Серафима (АУФСБ СПб ЛО. Ф. арх.-след. дел. Д. П-82582. Т. 1. Л. 22, 28, 146).
После ареста владыки Мануила, в феврале 1924 г., патр. Тихон назначил управляющим Ленинградской (Петроградской) епархией епископа Кронштадтского Венедикта (Плотникова). В августе 1922 г. по процессу митр. Вениамина он первоначально был приговорен к расстрелу, который заменили пятью годами заключения. 30 ноября 1923 г. еп. Венедикт досрочно вышел на свободу и сразу написал об этом патр. Тихону, высказав просьбу: «В виду сего вышеизложенного почтительнейше прошу Ваше Святейшество возвратить меня к исполнению обязанностей епископа Кронштадтского, викария Петроградской епархии. Имею честь с сыновним почтением донести Вашему Святейшеству, что 6 ноября 1923 г. Петроградский Губернский суд… по ходатайству Петроградской Губернской распределительной комиссии, на предмет условно-досрочного освобождения от наказания полностью, — определил ходатайство Комиссии удовлетворить» (РГИА. Ф.831. Оп. 1. Д.218. Л.221-221 об.). После положительной резолюции патриарха владыка Венедикт сразу вернулся к исполнению архипастырского служения в Северной столице.
В кон. 1923 г. еп. Мануил в письме патр. Тихону попросил благословения на передачу владыке Венедикту духовного руководства отошедшими от обновленчества приходами и монастырями Олонецкой (Петрозаводской) епархии (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 249. Л. 1-6 об.). Разрешение первосвятителя было получено, и 9 января 1924 г. епископ приступил к исполнению этих обязанностей.
Ленинградскую епархию владыка Венедикт возглавлял с середины февраля 1924 г. до ареста 18 декабря 1925 г. Одновременно он управлял Олонецкой и Новгородской епархиями, при этом активно боролся с обновленческим расколом, неоднократно издавал антиобновленческие воззвания к духовенству и мирянам. Для управления Ленинградской епархией владыка Венедикт с разрешения патр. Тихона создал Епископский совет, в который вошли епп. Григорий (Лебедев) и Серафим (Протопопов) (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 250. Л. 9–10); [Багдасарова, Шкаровский, 2004, 581].
Деятельность свт. Тихона по руководству Ленинградской и другими епархиями сильно осложнялась тем, что Патриаршая Церковь и органы ее управления не имели официального признания со стороны властей, формально в качестве Русской Православной Церкви советское государство признавало лишь обновленцев. 21 марта 1924 г. Президиум ЦИК СССР принял специальное постановление о прекращении дела по обвинению в антисоветских преступлениях патр. Тихона и ряда привлеченных вместе с ним к суду иерархов. При этом, не желая допустить полного поражения обновленчества, органы советской власти продолжали оказывать ему поддержку. В частности, остался в силе циркуляр Наркомата юстиции № 254 от 8 декабря 1923 г., запрещавший публичное возношение за богослужениями имени патриарха, что рассматривалось «как деяние, носящее характер явной политической демонстрации против рабочекрестьянской власти» (см. подр.: (Советская юстиция. 1934. № 16)).
Такая же ситуация была и в Петрограде. 18 января 1924 г. административный отдел Петрогубисполкома на основании разъяснений Наркомата юстиции издал циркуляр, запрещавший поминание патр. Тихона как деяние, дискредитирующее советскую власть. В циркуляре также указывалось: «Поскольку такое чествование, выражающееся в упоминании имени данного лица в публичных молитвах, проповедях и т. п., с присоединением к этому звания, по состоянию в котором это лицо совершило вменяемое ему преступное деяние, носит характер явной политической демонстрации против рабоче-крестьянской власти или направляется с явным намерением возбудить в населении недовольство или дискредитировать власть, оно является деянием уголовно-наказуемым…
Если же эти действия не представляют из себя указанного выше демонстративного характера, они, во всяком случае, могут явиться основанием для постановки вопроса в губисполкоме о возможности оставления в силе договора с группой верующих, взявших в пользование храм, ввиду ее нелояльного отношения к постановлениям судебной власти республики» (ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 9. Д. 10. Л. 38). Однако этот циркуляр часто игнорировался, и в храмах Северной столицы продолжали поминать патр. Тихона.
В то же время начиная с осени 1923 г. советские власти беспрерывно делали попытки примирить тихоновцев с обновленцами, желая объединить Русскую Православную Церковь под руководством послушного правительству Высшего церковного управления и в то же время подорвать авторитет патриарха. Новая такая попытка была предпринята весной 1924 г. Советские власти стали требовать от первосвятителя принять и ввести в церковное руководство известного ленинградского священнослужителя — председателя обновленческой группировки «Живая церковь» «протопресвитера» Владимира Красницкого.
С мая 1922 г. Красницкий являлся заместителем председателя обновленческого Высшего церковного управления, 8 мая 1923 г. был возведен в сан «протопресвитера Российской Православной Церкви» и избран заместителем председателя обновленческого Высшего церковного совета. Он тесно сотрудничал с ГПУ, неоднократно заявляя об этом публично. После освобождения из-под ареста патр. Тихона, вызвавшего резкий кризис обновленческой (Синодальной) Церкви, Красницкий, как слишком одиозная фигура, в августе 1923 г. был выведен из состава ее руководящих органов и вынужден уехать в Петроград. После провозглашения руководством Синодальной Церкви роспуска всех обновленческих групп он отказался подчиниться этим указам и в сентябре 1923 г. во главе группы «Живая церковь» порвал с остальным обновленчеством.
Идея объединения патр. Тихона с «живоцерковниками» принадлежала Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б). В частности, в ее постановлении от 8 апреля говорилось: «Принимая во внимание, что введение Красницкого к Тихону в Управление политически выгодно, поручить тов. Тучкову [возглавлявшему церковный отдел ОГПУ] таковое осуществить и, если одних словесных воздействий будет недостаточно, тактично применить другие меры, могучие оказать на Тихона и его приближ[енных]
епископов соответствующее воздействие». Патриарх и его ближайшие сподвижники негативно отнеслись к этой идее, выдвигая в качестве обязательного условия искреннее покаяние обновленцев (см.: [Мазырин, 2022, 165, 191]).
18 апреля 1924 г. ленинградский протоиерей Николай Чуков (будущий митр. Григорий) записал в дневнике полученные из Москвы новости: «Был у Патриарха о. Красницкий и предложил „работать вместе“, так как между нами нет догматических разделений. Патриарх отклонил это, сказав, что наши пути различны… Во всяком случае, о примирении как будто совсем нет речи… Запрещение митрополитов тоже может быть чревато последствиями, особенно здесь — в Петрограде» [Митрополит Григорий (Чуков): вехи служения].
Патриаршее управление тогда действительно пришло к решению, что начавшиеся в конце марта переговоры с Тучковым и Красницким нужно прекратить. Получив отказ, лидер «Живой церкви» 13-14 мая 1924 г. направил в ОГПУ две докладные записки, в которых прямо выражал свое недовольство по поводу недостаточно решительных, по его мнению, действий советской власти (см.: [Мазырин, 2022, 168]).
После отказа патриарха принять главу «живоцерковников» и назначить его на ключевую должность в Высшем церковном совете ОГПУ перешло к репрессиям в отношении ближайших помощников свт. Тихона. Вот как эту ситуацию описал в своем письме А. Д. Самарин: «Ответом на этот отказ был обыск почти у всех проживающих в Москве епископов и арест 8-ми из них (Еп[ископов] Феодора, Гурия, митр[ополита] Серафима Чичагова и др.) — все таких, которые убеждали Патриарха не поддаваться настояниям Тучкова. Двое скоро были освобождены, остальным предстоит ссылка. После этого Патриарх согласился принять Красницкого единолично после покаяния, но к нему снова стали являться депутации с просьбой не делать этого. Во вторник 13-го мая Красницкий был у Патриарха за окончательным ответом, но вел себя с такою наглостью, что Патриарх отказал ему в принятии и прервал с ним дальнейшие разговоры» [Мазырин, 2022, 169–170].
-
19 мая 1924 г. Красницкий наконец подал первосвятителю прошение, в котором просил принять его и его последователей в молитвенно-каноническое общение, покрыв любовию их прежние прегрешения, «чтобы потрудиться на восстановление церковного мира и по подготовке очередного Поместного Собора» в организующемся при патриархе церковном управлении. На этом прошении свт. Тихон в тот же день наложил резолюцию: «Ради мира и блага церковного, в порядке патриаршей милости, согласен принять в общение Протопресвитера Влад[имира] Красницкого. Св. Синоду предлагаю обсудить вопрос о включении его в состав образуемого Высшего Церков[-ного] Совета» [Мазырин, 2022, 170–171].
Перед первосвятителем встала нелегкая задача. С одной стороны, принятие в состав вновь организуемого церковного управления (Синод и Высший церковный совет) Красницкого и некоторых других живоцерковников обеспечило бы официальное признание этого управления и открывало возможность созыва Поместного Собора. Кроме того, патриарха заверяли, что будут освобождены находившиеся в ссылке архиереи и станет возможно организовать епархиальные управления на местах. Но, с другой стороны, наличие на руководящей роли в церковном управлении людей, скомпрометировавших себя перед Церковью и, вероятно, не отказавшихся от своих опасных замыслов, могло принести новые беды.
Чтобы заставить патриарха пойти на компромисс, ОГПУ развязало террор против его сподвижников. Святитель Тихон не боялся угроз в свой адрес, но он болезненно переживал, когда из-за его неуступчивости страдали другие. Ради облегчения их участи он и согласился принять в каноническое общение признавшего свои «прегрешения» Красницкого и даже ввести его в состав будущего Высшего церковного совета. 21 мая патриарх постановил сформировать Высшее церковное управление в составе Священного Синода и Высшего Совета из 14 членов (6 входило в «Живую церковь»). Однако это являлось лишь проектом, который не мог быть реализован раньше, чем совершилось бы воссоединение Красницкого с Православной
Церковью, для чего требовалось принесение последним действенного покаяния [Мазырин, 2022, 192].
Тем временем Красницкий при содействии советской власти стал продвигать свою версию произошедшего. 24 мая 1924 г. в «Известиях ЦИК» было опубликовано его заявление: «Сведения о том, что патриарх Тихон вошел в общение со мной и некоторыми другими членами революционной группы духовенства и мирян „Живая церковь“, совершенно справедливы… В настоящее время при патриархе Тихоне уже организован высший церковный совет, в который вместе со мной вступили члены центрального комитета нашей группы в количестве 6 человек. Мы поведем решительную борьбу с церковной контрреволюцией, раздирающей церковное единство ради своих чисто политических целей. В первую очередь намечается послание патриарха и высшего церковного управления о созыве очередного поместного собора с определенным признанием справедливости социалистической революции и решительным осуждением ее врагов, как внутренних, так и внешних. Дальше мы потребуем строгого церковного суда над заграничными церковными контрреволюционерами и отлучения их от церкви. Затем необходим пересмотр состава епископата и удаление из его рядов контрреволюционно настроенных элементов, а также смены приходских советов, так называемых „двадцаток“, с той же целью. Вообще мы будем проводить как политическую, так и церковно-каноническую программу группы „Живая церковь“, установленную нашими двумя всероссийскими съездами» (Известия ЦИК. 1924. 24 мая).
Таким образом, реального покаяния со стороны Красницкого не было. Напротив, через советские газеты он стал представлять дело так, что позиция «живоцерковников» изначально была правильной и не претерпела особых изменений, а это патриарх «раскаялся» и принял их «политическую программу» [Мазырин, 2022, 182].
Реакция свт. Тихона на лживое заявление Красницкого оказалась очень быстрой. Митрополиты Серафим (Александров) и Петр (Полянский) писали позднее в своем послании: «Прочитав подобное заявление, свят[ейший] патр[иарх] учинил следующее распоряжение: 24/V-24 года вследствие заявления о. Красницкого, напечатанного в „Известиях“ от 24/V-24 года за № 117,.. в коем он, между прочим заявляет о своем признании самочинного собрания 1923 г. Всероссийским поместным собором, о том, что будто бы я вошел (а не он) в общение с ним и я вместе с ним ставлю целью проводить церковно-каноническую программу группы Ж[ивая] Ц[ерковь], установленную двумя съездами этой группы, предлагаю св. Синоду все мои резолюции и все акты св. Синода по делу о. Красницкого и его группы считать не состоявшимися — аннулированными...» Таким образом фактически свои подписи по делу Красницкого патриарх отозвал в тот же день, как только лидер «Живой церкви» огласил свое ложное толкование событий [Следственное дело патриарха Тихона, 2000, 777].
Протоиерей Николай Чуков писал об данных событиях 8 июня 1924 г.: «В церковной жизни переживались газетные „волнения“: появилось известие о „блоке Патриарха с Красницким“ и целые ушаты грязи лили обновленцы на Патриарха. Народ был смущен. Наши легковерные батюшки (да и Пр[еосвященный] Венедикт) тоже приходили „в отчаяние“. А на самом деле, как говорят, было только то, что Красниц-кий по ордеру поселился в Донском монастыре и стремится соединиться с Патриархом. Тот ответил, что примет через публичное покаяние. Красницкий с посланием обратился к своим живоцерковникам, разъясняя, что политический мотив, разделявший их с Патриархом, отпал, и теперь он просит всех объединиться около Патриарха как главы русской Прав[ославной] Церкви» [Митрополит Григорий (Чуков): вехи служения].
В это время духовенство и верующие повсеместно выражали недовольство переговорами патр. Тихона с Красницким. Управлявший Ленинградской епархией епископ Кронштадтский Венедикт отказался принять с ним общение. Его взгляды разделяло большинство других архиереев, и первосвятитель решил последовать мнению Церкви. Так, 9 июля, получив адрес от Елисаветградского духовенства с просьбой не включать Красницкого в Высшее церковное управление, патриарх написал на нем резолюцию: «Благодарю за выраженные чувства верности. Прошу верить, что я не пойду на соглашения и уступки, которые могли бы угрожать целостности Православия. Если же переговоры с о. Красницким вместо радости вызывают тревогу и опасения, особенно в газетной передаче о. Красницкого, о чем свидетельствуют многочисленные заявления архипастырей, пастырей и мирян, то нахожу благовременным совершенно прекратить переговоры с о. Красницким о примирении и подписи на журнале от 8 (21) Мая 1924 г. считать недействительными». На следующий день первосвятитель заявил об этом в беседе с корреспондентом «Известий» (Известия ЦИК. 1924. 22 мая).
Большую роль в решении патриарха сыграл уроженец Кронштадта, духовный сын св. прав. о. Иоанна Кронштадтского митр. Кирилл (Смирнов). Возвращаясь в начале лета 1924 г. на короткое время из ссылки, он при встрече со святителем 2 или 3 июня выразил ему отрицательное отношение ссыльных епископов к возможному союзу с Красницким, чем способствовал принятию окончательного решения. Согласно сохранившимся свидетельствам, митр. Кирилл сказал: «Не нужно, Ваше Святейшество, вводить в Высшее Церковное Управление этих комиссаров в рясах». Патриарх Тихон на это ему ответил: «Если мы не будем идти на компромиссы, то тогда все вы будете расстреляны или арестованы». На это митр. Кирилл ответил патриарху: «Ваше Святейшество, мы теперь только на то и годимся, чтобы в тюрьмах сидеть» [Сафонов, 2019, 505].
По свидетельству еп. Афанасия (Сахарова) разговоры митр. Кирилла с патриархом и Тучковым проходили так: «Еще при жизни Святейшего Тихона в 1924 г. Вл[адыка] Кирилл возвращался из Зырянского края, и ему было предписано явиться в Москву к Тучкову, никуда по дороге не заезжая. Однако Владыка Кирилл первым делом все же отправился к Патриарху, который только что подписал согласие принять в общение обновленца Красницкого. На вопрос, зачем Святейший это делает, м[итропо-лит] Кирилл услышал ответ: „Я болею сердцем, что столько архипастырей в тюрьмах, а мне обещают освободить их, если я приму Красницкого“. На это Владыка Кирилл сказал: „Ваше Святейшество, о нас, архиереях, не думайте. Мы теперь только и годны на тюрьмы...'' Святейший вычеркнул фамилию Красницкого из только что подписанной бумаги…» [Апушкина, 2000, 43].
Примерно так же описывал конец переговоров с Красницким и протопр. Василий Виноградов: «Патриарх. из предосторожности, ввиду возможных репрессий со стороны Тучкова, некоторое время медлил, пока не явился в Москву митрополит Кирилл и окончательно убедил патриарха формально объявить о прекращении всяких переговоров с Красницким, что патриарх и сделал» [Виноградов, 1959, 39].
Сложившаяся ситуация убедила свт. Тихона в том, что никакого примирения с Красницким быть не может, но потребовался еще почти месяц, чтобы патриарх смог открыто объявить об этом, из опасений новых репрессий своих сподвижников и в надежде на удовлетворение ходатайств об освобождении ранее репрессированных священнослужителей (см.: [Мазырин, 2022, 182, 192]). Тем временем Красницкий, приезжая в Ленинград, продолжал там свою пропаганду. В частности, 22 июня 1924 г. он выступил с докладом в Казанском соборе, где, по свидетельству прот. Николая Чукова, сообщил, что «Патриарх пригласил его к соединению» [Митрополит Григорий (Чуков): вехи служения].
Наконец 28 июня патр. Тихон официально уведомил о полном разрыве с Красниц-ким Тучкова: «Евгений Александрович! По долгому и тщательному размышлению, приняв во внимание многочисленные заявления пастырей и, в особенности верующих — мирян, о нежелательности какого-либо общения с о. Красницким, сообщаю Вам, что я почитаю благовременным прекратить всякие переговоры о примирении с о. Красницким и подписи на журнале от 21 мая 1924 года об организации при мне Высшего Церковного Управления считаю недействительными — аннулированными» [Следственное дело патриарха Тихона, 2000, 379].
Священник Александр Мазырин в своей недавней научной работе справедливо отмечал, что, хотя свт. Тихон и был вынужден лично или через своих уполномоченных представителей вступать в переговоры с обновленцами, обязательным условием восстановления церковного общения с ними было публичное покаяние раскольников, которое те приносить не собирались. Важнейшей задачей для патриарха была не нормализация отношений с советским государством, а сохранение внутреннего мира в Церкви. В итоге свт. Тихон смог в сложнейших условиях уберечь каноническую чистоту, духовно-нравственный авторитет и единство Русской Православной Церкви. На роняющие церковное достоинство компромиссы с раскольниками первосвятитель не пошел (см.: [Мазырин, 2022, 165]).
После провала своего замысла ОГПУ пришлось сообщить об этом советскому руководству: «В связи с недовольством реакционной части духовенства и мирян примиренческой политикой Тихона последний объявил прерванными всякие сношения с Красницким и распустил епископат, бывший сторонником примирения. На местах, где об этом еще не стало известно, продолжает наблюдаться растерянность» [Совершенно секретно, 2001, 156]. Таким образом, планы по введению Красницкого в Высшее церковное управление полностью провалились, и в ответ на это ОГПУ запретило создание и функционирование Патриаршего Синода и каноничных епархиальных управлений, в том числе в Ленинграде.
Протоиерей Николай Чуков 7 августа 1924 г. записал в дневнике: «Сегодня был у Пр[еосвященного] Венедикта [Плотникова]… Преосвященный сказал, что Пр[еосвя-щенный] Григорий [Лебедев] вернулся из Москвы и сообщил, что Патриарх прервал с Красницким всякие переговоры, что последний был у него всего две минуты, что Патриарший Синод разогнан [ОГПУ], и управляет Патриарх единолично, что в случае соглашения с Красницким — был готов план роспуска обновленческого Синода… И все это рушилось. На мой вопрос о причинах Владыка ответил: „Вероятно потому, что Кр[асницкий] не выполнил условий“. „Каких?“ — „Не принес покаяния публично-го…“» [Митрополит Григорий (Чуков): вехи служения].
Нанесенный патриархом удар навсегда вывел Красницкого из публичной общественно-политической деятельности. Оказавшись на «задворках истории», он еще около десяти лет жил в Ленинграде, возглавляя остатки группы «Живая церковь» и являясь настоятелем нескольких храмов: первоначально, до 14 июля 1927 г., — Князь-Владимирского собора, затем — церкви св. Иоанна Милостивого, и наконец, с 1929 г. до своей смерти в ноябре 1936 г., — церкви св. Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Ленинграда (ЦГА СПб. Ф. 151. Оп. 4. Д. 8. Л. 80–81); [Санкт-Петербургская епархия в XX веке, 2000, 239].
Во 2-й пол. 1924 г., оставшись без заключенного в Соловецкий лагерь владыки Илариона (Троицкого), патр. Тихон трудился вместе с митрополитом Крутицким Петром (Полянским), который в дальнейшем стал патриаршим местоблюстителем. В этот период, вплоть до конца жизни, Святейший Патриарх Тихон продолжал уделять значительное внимание церковной жизни Северной столицы. Как уже говорилось, 23 июня 1924 г. первосвятитель возглавил хиротонию епископа Сестрорецкого Николая (Клементьева).
16 июня того же года с благословения патр. Тихона во епископа Велижского, викария Полоцко-Витебской епархии, был хиротонисан в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры ее насельник архим. Нектарий (Трезвинский) [Записки протоиерея А. Лебедева, 1926, 19]. Святитель Тихон назначил нового владыку временно управляющим Полоцко-Витебской епархией, однако еп. Нектарий к месту служения допущен не был, так как советские власти взяли с него подписку о невыезде из Ленинграда. В декабре 1924 г. патр. Тихон назначил владыку Нектария епископом Яранским, викарием Вятской епархии. 6 декабря епископ участвовал в празднике св. кн. Александра Невского в Лавре и вскоре после этого, в начале января, выехал в г. Яранск (АУФСБ Кировской обл. Ф. арх.-след. дел. Д. СУ-3930. Л. 118).
С первых дней служения там владыка Нектарий вел бескомпромиссную борьбу с обновленцами. С его приездом вновь перешел под окормление патриарха СвятоТроицкий собор. Первое богослужение еп. Нектарий провел 19 января в Успенском соборе, тогда же он ввел поминовение первосвятителя как «Великого нашего господина Святейшего Патриарха Московского и всея России Тихона» [Новомученик Нектарий (Трезвинский), 1997, 2]. 27 февраля 1925 г. прот. Сергий Знаменский рапортом доложил в Москву: «Ныне, под духовным водительством епископа Нектария она [Церковь] вся православная». Получив рапорт, патр. Тихон подчеркнул имена упоминавшихся в нем подвижников православия и написал резолюцию: «14 марта 1925 г. Указанным здесь лицам изъявляю благодарность и призываю на них Божие благословение» (АУФСБ Кировской обл. Ф. арх.-след. дел. Д. СУ-3930. Л. 121); [Новомученик Нектарий Трезвинский, 1997, 2–3].
1(14) октября 1924 г. патр. Тихон в храме Покровского монастыря совершил хиротонию и произнес слово при вручении архиерейского жезла приехавшему из Ленинграда бывшему насельнику Александро-Невской лавры новохиротонисанному епископу Каргопольскому, викарию Петрозаводской епархии, Илариону (Бельскому) [Акты Святейшего Тихона, 1995, 338].
В марте 1925 г. был освобожден из ссылки отбывавший срок наказания в Архангельске и Туркестане епископ Ладожский Иннокентий (Тихонов). После освобождения он приехал в Москву и здесь 25 марта подал рапорт Святейшему Патриарху Тихону, в котором написал о том, каких наград удостоил ссыльных священнослужителей, стремясь их утешить. Первосвятитель утвердил этот документ за 13 дней до своей кончины.
Еще в начале 1925 г., в связи с участившимися приступами стенокардии, патр. Тихон переехал в больницу Бакуниных на Остоженке, откуда продолжал управлять Церковью, а также, когда позволяло состояние здоровья, выезжать для совершения богослужений в храмах Москвы и возглавления архиерейских хиротоний. Смерть патриарха явилась большой, невосполнимой утратой для Русской Православной Церкви. Земная жизнь свт. Тихона завершилась 25 марта (7 апреля) 1925 г. В его похоронах участвовала большая делегация Петроградской епархии во главе с ее управляющим еп. Венедиктом (Плотниковым).
В настоящее время в Санкт-Петербурге все больше распространяется почитание свт. Тихона. Вскоре после его прославления в лике святых, в начале 1990-х гг., в Северной столице появились две часовни, освященные в его память. В 2024–2025 гг. в городе построили и освятили две церкви свт. Тихона, создаются еще два храма. Частицы мощей свт. Тихона и его иконы пребывают и в других храмах Санкт-Петербурга. Особенно много памятных мероприятий было проведено в Санкт-Петербурге в год столетия со дня кончины свт. Тихона: выставки, научные конференции, концерты и т. д. В Казанском соборе была установлена мемориальная доска, посвященная служению в нем св. патр. Тихона.