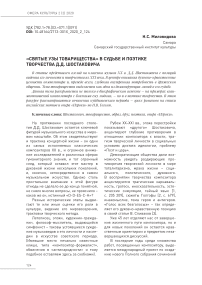"Святые узы товарищества" в судьбе и поэтике творчества Д.Д. Шостаковича
Автор: Миловидова Н.С.
Журнал: Сфера культуры @journal-smrgaki
Рубрика: Персоналии: Д.Д. Шостакович
Статья в выпуске: 2 (2), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен взгляд на классика музыки XX в. Д.Д. Шостаковича с позиций видения его личности и творчества из XXI века. В центре внимания духовно-нравственные ценности композитора и, прежде всего, глубокая внутренняя потребность в дружеском общении. Тема товарищества выделяется как одна из доминирующих линий в его судьбе. Данная тема раскрывается не только в биографическом аспекте - на примерах взаимоотношений композитора с близкими ему людьми, - но и в поэтике творчества. В этом ракурсе рассматриваются сочинения куйбышевского периода - цикл романсов на стихи английских поэтов и опера «Игроки» по Н.В. Гоголю.
Шостакович, товарищество, образ, друг, поэтика, опера
Короткий адрес: https://sciup.org/170178608
IDR: 170178608 | УДК: [782.1+78.[03.+071.1](091) | DOI: 10.48164/2713-301X_2020_2_124
Текст научной статьи "Святые узы товарищества" в судьбе и поэтике творчества Д.Д. Шостаковича
На протяжении последнего столетия Д.Д. Шостакович остается ключевой фигурой музыкального искусства в мировом масштабе. Об этом свидетельствуют и практика концертной жизни – он один из самых исполняемых классических композиторов XX в., и огромное внимание исследователей в различных сферах гуманитарного знания, и тот огромный след, который оставил этот мастер в духовной жизни нескольких поколений, и, конечно, непосредственно в самом музыкальном искусстве. Однако столь пристальное внимание к этой фигуре отнюдь не сделало ее до конца понятной, не сняло многие вопросы, не прояснило – каков же он, истинный «D-D-ES-C-H»?
Разные исторические этапы выдвигают те или иные оценки его роли в культуре, видение его мировоззрения, трактовки творческого метода.
Летописец эпохи, художник-гражданин, философ-мыслитель, выдающийся симфонист – таковы устоявшиеся суждения музыковедов о его личности и наследии в искусстве советского периода. (Имевшие место печально известные клише, типа «композитор-формалист», обвинения в «антинародности» и тому подобное оставляем здесь за скобками).
Рубеж XX–XXI вв., эпоха перестройки показывают «другого» Шостаковича, акцентируют глубокие противоречия в отношении композитора к власти, трагизм творческой личности в социальных условиях диктата идеологии, проблему «Поэт и царь».
Демократизация общества дали возможность увидеть раздирающие противоречия творческой личности в мире тоталитаризма, мрака жизни – социального, политического, духовного. В восприятии творчества композитора акцентируются трагическая карнаваль-ность, гротеск, иносказательность, эстетические симуляции, тайный язык [1, с. 205 209], сюжеты Голгофы [2, с. 679], инакомыслие, тема героя и антигероя. «Голос всех безголосых» – так определяет его духовно-нравственную позицию в своей статье В. Спиваков [3].
Уже 45 лет отделяют нас от завершения жизненного пути композитора, но и для новых поколений он остается нравственным ориентиром и предметом неза-вершающихся дискуссий.
В последние годы среди множества работ, посвященных композитору, выделяется международный проект по созданию нового Полного собрания сочинений композитора. Проект выполняют ведущие музыковеды нашей страны, общую редакцию осуществляет известный композитор и музыковед В.А. Екимовский, координатор – вдова композитора И.А. Шостакович. С нетерпением ожидаемое исполнителями, музыковедами, историками культуры издание даст ответы на многие интересующие их вопросы, послужит сохранению и обобщению наследия мастера.
Однако соприкосновение с личностью и творчеством композитора открывает все новые грани понимания его внутреннего мира, нравственных и художественных ценностей. О духовной жизни творца судят, в первую очередь, по его созданиям. Но, наряду с творчеством, она прослеживается в мемуарной литературе, воспоминаниях современников и коллег по «музыкальному цеху», в текстах самого композитора.
Противоречия внутреннего и внешнего бытия остроумно и горько раскрываются в своеобразной музыкальной публицистике – это «Предисловие к полному собранию моих сочинений и краткое размышление по поводу этого предисловия» (op. 123), написанное Д. Шостаковичем на собственные слова в 1966 году:
Мараю я единым духом лист;
внимаю я привычным ухом свист; потом всему терзаю свету слух;
потом печатаюсь – и в Лету бух! <∙∙∙> А вот и подпись:
Дмитрий Шостакович.
Народный артист ЭС ЭС ЭС ЭР.
Очень много и других почетных званий. Первый секретарь Союза композиторов ЭС ЭС ЭС ЭР.
Просто секретарь Союза композиторов ЭС ЭС ЭС ЭР.
А также очень много других весьма ответственных нагрузок и должностей [4, с. 62-64].
Несмотря на огромную интенсивность контактов в общественной жизни Шостаковича, было не так много людей, которых он «впускал» в свой внутренний мир, с кем находил истинную дружбу и понимание. Музыковед М. Райс приводит слова композитора: «Моя жизнь – это одиночество на людях», хотя друзей он искал «неистово» [5]. Среди них личности незаурядного масштаба: Б. Кустодиев, И. Соллертинский, М. Тухачевский, литературовед, профессор ленинградской консерватории И. Гликман, любимый ученик М. Вайнберг, М. Ростропович, Б. Бриттен и др. Не случайно столь обширен перечень сочинений с посвящениями – друзьям, музыкантам, исполнителям произведений (И. Соллертинскому, Е. Мравинскому, Д. Ойстраху, В. Кубацкому и др.).
История взаимоотношений с каждым из этого далеко не полного списка являет череду сокровенных страниц истинной дружбы и высокого духовного общения; общность творческих устремлений.
Одно из первых мест в этом ряду принадлежит И.И. Соллертинскому – искусствоведу, филологу, музыковеду, балетоведу («веду всего», как его называли), человеку феноменальных способностей, особенно в области лингвистики, знавшему несколько десятков языков. Он открыл Дмитрию Дмитриевичу Г. Малера, творчество которого страстно любил сам, и которое оказало огромное воздействие на симфонизм Шостаковича. По его признанию, И.И. Соллертинский, будучи старше, «сформировал мое мировоззрение» [6, с. 88]. По свидетельствам супруги Соллертинского, Ирины Францевны Дерзаевой, в 1920-е гг. «не было дня, чтобы они не встречались… Обычно уединялись и вели нескончаемый разговор. Шостакович музицировал. Крепчайший горький чай требовался в неограниченном количестве. <…> Называли друг друга с забавной уважительностью – на ты, но по имени-отчеству: Ван Ваныч, Дми Дмитрич. Они не скрывали обоюдного восхищения. Соллертинский не уставал повторять: “Шостакович – гений, это оценят”» [Там же].
Последним выступлением Соллертинского как музыковеда стало исполнение 8 симфонии Шостаковича в Новосибирске во время эвакуации.
Как пишет в своих «Воспоминаниях» А. Орлова, сотрудница Ленинградской филармонии, близко общавшаяся с Соллертинским в эвакуации в Новосибирске, в честь Шостаковича Соллертинский назвал своего сына Дмитрием [7]. Еще до войны, будучи молодыми, друзья поклялись, что оставшийся в живых позаботится о семье другого. Исполнить это обещание выпало на долю Шостаковича после смерти Соллертинского в 1944 году. Памяти «самого близкого друга» посвящено Фортепианное трио, написанное в то же время.
Почти полтора года жизни Шостаковича (1941–1943 гг.) приходятся на куйбышевский период, где он находился в эвакуации в начале Великой Отечественной войны. В это нелегкое время, помимо тягот, испытываемых всеми, на Шостаковича тяжело действует эвакуация. В письмах он, привыкший к холодному климату, сетует на «страшную, чудовищную жару… пыль и грязь» [8, с. 72]. Но более всего – на отсутствие общения с друзьями. «Скучно мне без друзей. Опять скорблю, что ты не слышал Симфонию. <…> Мне очень хотелось бы знать твое мнение. <…> В полном одиночестве все это трудно переживать», – пишет он в апреле 1942 г. В. Шебалину [8, с. 63].
Несмотря на огромную занятость собственным творчеством и общественной работой, Шостакович заботился о сочинении своего талантливого ученика Вениамина Флейшмана, погибшего на фронте в 1941 г. под Ленинградом. В дальнейшем, в 1944 г., Шостакович дооркестровал и досочинил недостающие фрагменты в его опере «Скрипка Ротшильда» по одноименному рассказу А. Чехова. А 7 мая 1942 г. в письме своему ученику, ответственному секретарю композиторской организации О. Евлахову, он пишет: «Я очень люблю это сочинение и беспокоюсь за него; как бы оно не пропало», просит с оказией переслать его в Куйбышев [8, с. 75]. Благодаря усилиям Шостаковича, сочинение не пропало, оно получило сценическую жизнь: в 1960 г.
состоялось концертное исполнение, а в 1968 г., по инициативе С. Волкова, опера была поставлена на сцене Ленинградской консерватории.
Созданная усилиями Шостаковича в 1941 г. в Куйбышеве секция Союза композиторов (КССК) была не только проявлением общественной активности, но и возможностью оказать всестороннюю поддержку местным музыкантам – творческую, материальную, моральную.
Свое дружеское участие Шостакович проявлял и лично. Искренне помогал коллегам в осуществлении исполнений их музыки, давал ценные советы: В. Антюфееву – в работе над «Драматическим эпизодом» для альта и фортепиано, Я. Каплуну при написании Скрипичных пьес, В. Денбскому – в опере «Маскарад».
«А Вы знаете, много хорошей музыки», – так отозвался маэстро о кантате Л.Ф. Другова «Казнь Степана Разина» на стихи А. Суркова. Его телефон 2–22–73 знали многие в городе – об этих фактах сообщает исследователь самарской культуры В.Н. Бацун [9, с. 21–22].
«Святые узы товарищества», буквально пронизывающие духовную жизнь Шостаковича, наглядно подтверждаются многочисленными фактами его биографии. Но они освящали не только жизнь композитора, но и его творчество, нашли многостороннее претворение в поэтике сочинений разных лет, в художественных замыслах, структуре произведений, хотя проявляется это не столь очевидно. Так, нередко в художественном тексте Шостаковичем воссоздаётся образ «лирического героя» – друга, способного понять, защитить, дать духовную опору. В представлении Шостаковича – это человек мужественный, способный на самопожертвование, истинную преданность. Тема героя-заступника претворена порой в очень непохожих сочинениях: поэме «Казнь Степана Разина» на слова Е. Евтушенко (1964 г.), Цикле романсов на стихи английских поэтов (1942 г.), в 8 балладах на слова Е. Долматовского «Верность» (1970 г.). В кинофильме
«Гамлет» эта тема преломляется как верность-предательство, а в опере «Игроки» получает гротескное осмысление.
Данная тема проявляется и в сочинениях куйбышевского периода творчества. Наряду с легендарной «Ленинградской» симфонией, в нашем городе Шостакович написал ещё несколько произведений (это вышеупомянутая опера «Игроки» по Н. Гоголю, Цикл романсов на стихи английских поэтов; Соната № 2 для фортепиано, сюита «Родной Ленинград» – музыка к театрализованной программе «Отчизна»).
В творчестве Шостаковича куйбышевского периода война обостряет такие антиномии, как жизнь – смерть, личное – всеобщее, добро – зло, созидание – разрушение, верность – предательство и т. д. В музыке композитора отчетливо акцентируются темы мужества, товарищества, противостояния насилию; доминируют мужские образы.
Так, Цикл романсов для баса написан на стихи английских поэтов (У. Ралея, Р. Бернса, В. Шекспира). Обращение Шостаковича и С.Я. Маршака, переводчика текстов, к английской культуре было не случайным: готовилось открытие Второго фронта. Так отдавалась дань союзникам по борьбе с фашизмом. В Цикле предстают шесть музыкальных эпизодов: «Сыну», «В полях под снегом», «Макферсон перед казнью», «Дженни», «Сонет 66», «Королевский поход». Его героями являются воин, король, подросток. Герой первого романса – резвящийся подросток-сорванец, которого уже подстерегает виселица. Весь жизненный путь доблестного полководца проходит перед нами в миниатюре «Макферсон перед казнью». Будучи на вершине славы, он был предан и теперь бесстрашно идет на эшафот. Образ «Сонета» – удрученный опытом старец, познавший всю несправедливость жизни, который теперь, измучась, жаждет смерти. Трагические настроения усиливаются к концу опуса и, достигнув вершины в романсе на стихи Шекспира, в сжатом варианте проходят в миниатюре «Королевский поход».
Два романса указывают на боевые действия и ратные подвиги: «Макферсон перед казнью», его герой «жизнь свою провел в бою», и «Королевский поход», рисующий неудачный марш-бросок: «По склону вверх король повел полки своих стрелков, по склону вниз король сошел, но только без полков». Идея восхождения и нисхождения воплощена здесь в семантике «верха» и «низа» музыкальной композиции. Первая половина романса основана на восходящей мелодической линии, в середине между вокальными строфами возникает резкий и короткий «спуск» шестнадцатых длительностей, а вторая половина звучит в низком регистре. Тональность Es-dur в этом романсе связана с семантикой зловещих гротесковых образов, вызывает аллюзии с эпизодом нашествия 7 симфонии, основной тональностью Симфонии № 9, маршевой темой первой части Сонаты для фортепиано № 2 и другими произведениями.
Война заставляет острее осознать дихотомии жизни. Цикл насквозь пронизан противопоставлениями. Оппозиция «жизнь – смерть» делит его на группу романсов с темой смерти («Сыну», «Макферсон перед казнью», «Сонет 66») и жизнерадостную зарисовку мирной жизни («Дженни»). Светлая и трепетная миниатюра исполняет роль оттеняющего контраста, противостоит мрачным и напряженным частям опуса.
Подобные размышления прослеживаются в «Сонете 66» на стихи Шекспира. Его герой остро воспринимает проблемы бытия: торжество ханжества, наглости, неравенства людей и других пороков над духовным началом, воспринимает их как глубоко личные. Удерживает его в жизни лишь мужская дружба: «Измучась всем, не стал бы жить и дня, да другу будет трудно без меня». Как отмечает С. Хентова, это «своеобразный музыкальный автопортрет Шостаковича, где он по силе музыкального выражения поднялся вровень с Шекспиром» [8, с. 132].
Все романсы цикла имеют посвящения: № 1 «Сыну» – музыканту и общественному деятелю
Л.Т. Атовмьяну, № 3 «Макферсон перед казнью» – И.Д. Гликману, № 4 «Дженни» – Г.В. Свиридову, № 5 «Сонет 66» – И.И. Соллертинскому, № 6 «Королевский поход» – В.Я. Шебалину. Своей жене – Н.В. Шостакович – композитор посвятил миниатюру «В полях под снегом и дождем» (№ 2). Но это не любовная лирика в традиционном понимании, а опять же, скорее, обращение к другу. Присутствие женского образа «выдают» лишь последние знаменитые строки: «И если б дали мне в удел весь шар земной, весь шар земной, / С каким бы счастьем я владел тобой одной, тобой одной». Но генеральная «тихая» кульминация приходится все же на предыдущие строки: «Пускай сойду во мрачный дол, где ночь кругом, где тьма кругом. / Во тьме я солнце бы нашел с тобой вдвоем, с тобой вдвоем».
Подобные идеи находят отражение и в опере «Игроки». И в этой – второй гоголевской (после «Носа») опере Шостаковича выбор сюжета да и самого литературного соавтора свидетельствует о преобладании мужских образов. Мир гоголевских героев – «мужской» мир: достаточно вспомнить «Мертвые души», «Нос», «Тараса Бульбу», «Шинель», «Ревизора», «Записки сумасшедшего» и т. д., тогда как женские персонажи подаются у него либо эпизодически, либо иронично, «не всерьез».
Опера «Игроки» написана на почти неизменный текст пьесы. В ней шесть действующих лиц: игроки Ихарев, Кругель, Утешительный, Швохнев, а также их слуги – Алексей и Гаврюша. Герои «Игроков», как и герои цикла романсов, ведут борьбу. Но это борьба мошенников, для которых игра становится главным делом жизни и даже «творчеством». Это образы шулеров – изобретательных, умных, выступающих в масках солидных, честных людей.
Пример тому – карточная игра в опере «Игроки», в которой нет места чувствам, а есть только холодный разум, расчет, цифры и масти. В этом проявляется не только власть «золотого тельца»: Ихарев отдается шулерской «деятельно- сти» с небывалой страстью, именно она составляет весь смысл его существования. Шостакович, по воспоминаниям И. Гликмана, крайне стеснялся этой работы: все пишут патриотические сочинения, поднимая дух нации, а здесь опера о шулерах, обыгрывающих друг друга в карты... [10, с. 53–54]. С. Хентова объясняет намерение композитора, связывая карточную игру с многоликостью зла. Композитор будто бы видел ее соприкосновение с современностью, с войной, фашизмом, его философией злодеев-мошенников, игравших жизнями миллионов людей [8, с. 86].
Мужская дружба, которая связывает персонажей оперы, ведет их к созданию шулерского союза. Эта идея оперы отчетливо прослеживается в принципах структурно-драматургической организации сочинения. Шостакович избирает три типа сцен: монологи-рассказы (пространные, эмоционально наполненные, в которых говорится о различных способах обмана игроков и их необыкновенном искусстве), бытовые диалоги (приезд в трактир Ихарева, знакомство слуг, взаимное осторожное «прощупывание» шулерами своих возможностей), развернутый и внутренне динамичный ансамбль (знакомство игроков, их совместная трапеза, карточная игра и сговор). Кульминационная зона, вначале объединенная стремлением сорвать маски с партнеров, а затем радостью от заключения «дружественного» союза, включает в себя ансамбль «Мы видели ваше искусство» и фугу «И так, подадим же всякий из нас друг другу руки», гротескно олицетворяющие твердость союза шулеров.
Произведения, написанные в куйбышевский период, за исключением «Ленинградской» симфонии, казалось бы, не имеют связи с темой войны. Но они несут символы и приметы военного времени на подсознательном уровне. Переживания этих лет Шостакович перенес на рельефность и многоликость образа человеческой личности, утверждение нравственных принципов, которые были для него дороги и незыблемы.
Список литературы "Святые узы товарищества" в судьбе и поэтике творчества Д.Д. Шостаковича
- Левая Т. Шостакович: поэтика иносказаний // Искусство XX века: уходящая эпоха?: в 2 т. Т. 1 / ред.-сост. В. Валькова, Б. Гецелев. Нижний Новгород: Нижегород. гос. консерватория, 1997. С. 200-210.
- Валькова В. Сюжеты Голгофы в творчестве Шостаковича // Шостакович. Между мгновеньем и вечностью. Документы. Материалы. Статьи / ред.-сост. Л. Ковнацкая. Санкт-Петербург, 2000. С. 679-717.
- Спиваков В. «Голос всех безголосых» [Электронный ресурс]. URL: https://www. chayka.org/node/338 (дата обращения: 04.05.2020).
- Шостакович Д.Д. Собрание сочинений: в 42 т. Т. 33: Романсы и песни для голоса с фортепиано. Москва: Музыка, 1984. С. 62-68.
- Райс М. Шостакович как личность [Электронный ресурс] // Evrica_taurica.livejournal. com. URL: https://evrica-taurica.livejournal.com/51373.html (дата обращения: 04.05.2020).
- Майер К. Дмитрий Шостакович: Жизнь, творчество, время / пер. Е. Гуляевой. Санкт-Петербург: Композитор, 1998. 559 с.
- Орлова А. «Он между нами жил». Вспоминая И. Соллертинского [Электронный ресурс] // Вестник Online. 2003. № 12 (323). 11 июня. URL: //http://www.vestnik.com/ issues/2003/0611/koi/orlova.htm (дата обращения: 04.05.2020).
- Хентова С. Д. Шостакович. Жизнь и творчество: в 2 кн. Кн. 2. Ленинград: Совет. композитор, 1986. 624 с.
- Бацун В.Н. Самарские композиторы в контексте музыкальной культуры XX века // Прошлое и настоящее музыкальной культуры в трудах самарских музыковедов: сб. ст. и материалов. II Междунар. науч.-практ. конф. «Самарский край в контексте мировой культуры» / ред. Э.А. Куруленко. Самара: Азбука, 2002. С. 7-36.
- Письма к другу. Дмитрий Шостакович - Исааку Гликману. Москва: DSCH; Санкт-Петербург: Композитор, 1993. 335 с.
- Хентова С. Д.Д. Шостакович в годы Великой Отечественной войны. Ленинград: Лениздат, 1979. 280 c.