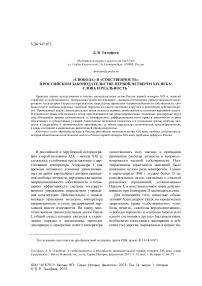"Свобода" и "собственность" в российском законодательстве первой четверти XIX века: слова и реальность
Автор: Тимофеев Дмитрий Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Проведен анализ использования в текстах законодательных актов России первой четверти XIX в. понятий «свобода» и «собственность». Центральная задача исследования -выявить соотношение провозглашенного императором Александром I курса на юридическое закрепление принципов неприкосновенности собственности, свободы печати, свободы торговли, «свободы перехода из одного состояния в другое» и российской действительности. Проведенный анализ законодательных актов позволил выявить двойственность политики верховной власти. В отношении права собственности четко прослеживаются две разнонаправленные тенденции: расширение круга лиц, обладавших правом собственности, и, одновременно, дифференциация этого права в зависимости от ряда объективных и субъективных условий. Аналогичное положение сложилось и в отношении границ свободы личности в социальном и экономическом пространстве: ее объем определялся политической целесообразностью, а также сословной и национально-религиозной принадлежностью.
Европейские идеи в России, российское законодательство xix века, свобода, собственность, история общественно-политическоймысли в России первой четверти xix века, проблемы реформ вроссии
Короткий адрес: https://sciup.org/147219232
IDR: 147219232 | УДК: 947.072
Текст научной статьи "Свобода" и "собственность" в российском законодательстве первой четверти XIX века: слова и реальность
В российской и зарубежной историографии второй половины ХIХ – начала XXI в. сложилось устойчивое представление о царствовании императора Александра I как времени активного усвоения заимствованных из работ европейских авторов принципов свободы личности, верховенства закона, неприкосновенности собственности и повышения эффективности системы государственного управления посредством учреждения конституции. Действительно, с первых месяцев правления молодого императора направленность и стиль распоряжений верховной власти изменяются. На смену многочисленным законодательным актам Павла I, общий смысл которых сводился к укреплению порядка и дисциплины, приходят декларации о намерении нового императора
«восстановить силу закона» и признании принципов свободы личности и неприкосновенности частной собственности. Подтверждением серьезности заявлений было появление целого ряда манифестов. Только в марте-апреле 1801 г. издано более 15 законодательных актов, связанных с отменой различных ограничений, установленных Павлом I, и восстановлением норм действовавшего при Екатерине II законодательства.
Для понимания того, насколько объявленный Александром I курс на юридическое закрепление права «собственности», «свободы печати», «свободы вероисповедания», «свободы торговли» и «свободы перехода из одного состояния в другое» был реализован, необходимо сопоставить декларации и действия государства, выраженные в форме ма- нифестов, именных указов, положений, уставов и судебных постановлений.
В действиях верховной власти в отношении законодательного регулирования права собственности отчетливо прослеживаются две разнонаправленные тенденции . Первая из них отражена в целом ряде законодательных актов, регламентировавших порядок наследования и приобретения недвижимой собственности. Указом 26 ноября 1801 г. «О дозволении последнему в роде продавать и закладывать родовое имение» [ПСЗ-I, 1830. Т. 26. С. 852‒853] 1 было упразднено ограничение, в соответствии с которым после смерти дворянина, не имевшего близких родственников по прямой восходящей или нисходящей линии, все полученное по наследству недвижимое имущество подлежало передаче государству. Несколько позднее, весной 1804 г., был издан указ «О праве каждого распоряжать благоприобретенным имением по произволу, согласно законам» (Т. 28. С. 345).
Не менее отчетливо приверженность верховной власти идее законодательного закрепления права частной собственности отражена в ряде указов, направленных на расширение круга лиц, которые получали право обладания недвижимостью. Первый шаг в данном направлении ‒ указ 12 декабря 1801 г. «О предоставлении купечеству, мещанству и казенным поселянам приобретать покупкою земли» ( Т. 26. С. 862‒863). Позднее, в качестве дополнительного разъяснения сущности права «собственности» для тех категорий населения, которые ранее не могли приобретать земельные участки, 24 апреля 1802 г. был издан cенатский указ «О нестеснении людей свободного состояния и казенных крестьян в покупке земель и в совершении на оныя крепостей узаконенным порядком». В нем подтверждалось, что право заключения сделок купли-продажи земли распространялось теперь не только на дворянство, купечество и мещанство, но в равной степени на государственных крестьян и крестьян «отпущенных на волю от помещиков» (Т. 27. С. 123‒124). При этом были перечислены основные признаки собственности: всем российским подданным, за исключением крепостных крестьян, было даровано «право продавать, или закладывать, или завещать, или дарить, как сии земли, так и сделанные ими на оных какие-либо хозяйственные заведения…» (Т. 27. С. 124). Весь этот комплекс возможностей, с позиции законодателя, означал наличие у крестьянина права распоряжения приобретенной землей «…яко собственностью своею на основании законов…» (Т. 27. С. 124).
Таким образом, во всех подобного рода нормативно-правовых актах государство достаточно четко определяло перечень существенных признаков «собственности» и подчеркивало, что любые операции с недвижимостью должны осуществляться в строгом соответствии с законом.
Вторая тенденция в рамках государственной политики по правовому закреплению права собственности имела противоположную направленность. Одновременно с мерами по расширению числа потенциальных собственников, правительство усиливало дифференциацию права « собственности » в зависимости от целого ряда объективных и субъективных условий. Первым, и самым важным, критерием для определения объема права на обладание собственностью была сословная и внутрисословная принадлежность.
Неравенство прав собственности российских подданных в зависимости от их сословной принадлежности отчетливо прослеживается, например, при сопоставлении нормативно-правовых актов, регламентировавших порядок разрешения имущественных споров между частными лицами. В начале XIX в. основополагающим документом в подобных случаях был «Устав о банкротах» (1800 г.), в котором процедура банкротства по искам частных кредиторов для должников из числа дворян, чиновников и купечества существенно отличалась (Т. 26. С. 440‒476).
В царствование императора Александра I количество обстоятельств, оказывавших влияние на возможность бывшего владельца оспорить результаты судебного решения по имущественным делам, было существенно увеличено. Вполне естественным считалось, например, что собственность дворянина имела особый статус. Примером законодательного закрепления дополнительных преимуществ дворянина являются указы 12 марта и 20 апреля 1807 г. В первом из них устанавливался особый порядок продажи имений за долги: в случае отсутствия желающих приобрести имение по первоначально предложенной цене, дворянин получил право переносить торги из губерний в Москву или Санкт-Петербург (Т. 29. С. 1043). Во втором ‒ четко заявлено о том, что «право выкупа», под которым понималось право требовать расторжения сделки и передачи собственности бывшему владельцу или его родственникам, могло быть реализовано только в спорах между людьми «одинакового состояния» (Т. 29. С. 1172). Таким образом, на практике равенство прав собственности в российском законодательстве трактовалось, прежде всего, как равенство субъектов в рамках одной социальной группы. При возникновении имущественных конфликтов между представителями различных сословий, судебные инстанции должны были учитывать множество дополнительных условий и обстоятельств, которые были зафиксированы в различных именных указах и ведомственных инструкциях. Все это приводило к тому, что участники конфликта еще до начала разбирательства дела были поставлены в заведомо неравное положение.
Неравенство проявлялось и в случае возникновения имущественных споров между гражданами и государством. В законодательстве не был определен общий, универсальный для всех категорий населения порядок компенсации гражданам имущественных потерь, причиненных в результате деятельности государства. Решение о выплате денежной компенсации по каждому конкретному случаю вступало в законную силу только после утверждения императором. Такой порядок 21 июня 1821 г. был закреплен в «Высочайше утвержденном положении комитета министров о назначении владельцам удовлетворения за отбираемую у них в казну собственность» (Т. 37. С. 732‒733). На практике, в случае возникновения конфликтов между личностью и государством, юридически была установлена лишь односторонняя ответственность гражданина. Ответственность же государства за причинение материального вреда частным лицам могла наступать только по усмотрению самого государства, выраженному в именных указах.
Противоречивость политики самодержавия в отношении юридического закрепления имущественных прав проявлялась и в отношении потомственных дворян, владевших так называемой «крещенной собственно- стью». Верховная власть неоднократно подчеркивала, что с формально-юридической точки зрения дворянин обладал правом «собственности» лишь на «населенные земли», а не на самих крестьян. При этом формально, на уровне законодательных актов, было предписано производить расчет стоимости имения исходя из количества крестьян.
Стремление верховной власти отделить право собственности на вещи от права управления крепостными крестьянами представлено в целом ряде указов, ограничивавших продажу людей без земли [Семев-ский, 1888; Долгих, 2006]. Так, например, 30 января 1815 г. был введен запрет публиковать объявления о купле-продаже крестьян и дворовых людей без земли с прямым указанием, что «…продаваемых же без земли людей недвижимым имением почитать не можно» (Т. 33. С. 19). В такой трактовке крестьянин не являлся собственностью дворянина, а был лишь своеобразным приложением к земельным владениям помещика.
Однако подобного рода декларации противоречили другим нормативно-правовым актам, в которых, несмотря на теоретические рассуждения о необходимости дифференциации права собственности и права управления крестьянами, косвенно подтверждалось, что в действительности крестьянин являлся собственностью помещика.
Во-первых, расчет стоимости дворянского имения производился в зависимости от количества крестьян. Так, например, 3 августа 1806 г. в указе «О цене ревизских душ, каковую должно назначать при совершении купчих и дарственных записей» всем государственным учреждениям, регистрировавшим переход недвижимого имущества от одного владельца к другому, было предписано следить за тем, чтобы в договорах купли-продажи и при оформлении дарственной стоимость одного крестьянина была указана не менее 75 руб., а в случае, если продаже подлежали женщины – не менее половины от указанной цены на мужчин (Т. 29. С. 672). Аналогичное правило было подтверждено указом от 28 октября 1808 г. (Т. 32. С. 189).
Еще более заметным вмешательство государства в процесс определения нижнего ценового порога при заключении актов купли-продажи «населенных земель» стало после издания 24 ноября 1821 г. сенатского указа «О гербовом и крепостном сборах». По данному указу все губернии Российской империи, в зависимости от численности населения, были разделены на 6 классов, и для каждого класса установлен свой минимальный порог цен на крестьян: от 200 руб. в губерниях 6-го класса (Архангельская, Иркутская, Тобольская, Томская губернии и Грузия) до 500 руб. за «ревизскую душу мужского пола» в губерниях 1-го класса (Московская и Санкт-Петербургская губернии) (Т. 37. С. 926).
Во-вторых, важным инструментом оказания финансовой помощи разорившимся помещикам были выдаваемые государством под залог дворянских имений денежные ссуды, размер которых устанавливался пропорционально стоимости одной «ревизской души мужского пола» (Т. 29. С. 672; Т. 34. С. 440). Такой же механизм действовал при оказании правительством финансовой помощи помещикам в случае неурожая (Т. 38. С. 1031).
В-третьих, государство официально устанавливало размер компенсационных выплат помещику за утрату крестьян в результате действий правительства. Так, например, в соответствии с «Положением о присоединении к военным поселянам детей, прижитых ими до поступления на службу» (1824) помещику выплачивалось «денежное вознаграждение» за каждого крестьянина в зависимости от его пола и возраста: за детей мужского пола от 1 года до 10 лет помещик получал от 22 до 300 руб., а от 11 до 18 лет и старше – от 390 до 1 000 руб. (Т. 39. С. 122‒123). Очевидно, что для помещика сам факт существования установленных верховной властью цен на «ревизские души» был неопровержимым доказательством того, что крестьянин - такая же собственность , как и другое недвижимое имущество, которое можно продать, заложить, подарить или передать по наследству.
Дифференциация права собственности в зависимости от внутрисословной принадлежности прослеживается и в законодательстве, регламентировавшем имущественные отношения крестьян. В официальных документах понятие «собственность» для описания имущественных отношений крестьян употреблялось редко и не всегда совпадало с общим для всех «свободных состояний» значением. Характерным примером такого словоупотребления может служить «Положение комитета министров о поступлении в отношении земель владеемых крестьянами, приписанными к заводам» (1821 г.) (Т. 37. С. 635‒638). В данном документе по аналогии с правилами, изложенными в «Горном положении» (1806 г.), крестьянин, самостоятельно сделавший землю пригодной для производства сельскохозяйственной продукции, получал право пожизненного пользования, и даже право продажи земли другому работнику, что позволяло законодателю назвать такого рода участки «собственностью» крестьянина. В действительности речь шла лишь об условном праве владения, так как приписной крестьянин мог продать свой участок только такому же крестьянину, как и он сам.
Более четко условия приобретения права «собственности» крестьян на землю были определены в нормативно-правовых актах, возникших в связи с попытками правительства выработать безопасный вариант постепенного упразднения в России крепостной зависимости. Первым таким документом был указ 20 февраля 1803 г., предоставлявший помещикам право освобождать частновладельческих крестьян за выкуп с землей (Т. 27. С. 462). Установленный порядок наделения крестьян землей предполагал, что юридически «право собственности» возникало только после освобождения и, по сути, приобретения у помещика определенного участка земли. В такой трактовке крестьянин просто покупал у дворянина земельный участок, что соответствовало одному из наиболее распространенных способов приобретения «собственности» представителями всех свободных «состояний» в Российской империи первой четверти XIX в. Именно поэтому выкупная операция, предусмотренная указом от 20 февраля 1803 г., могла восприниматься дворянами как обычная сделка купли-продажи, которую можно отменить в одностороннем порядке. Характерным примером такого поведения может служить дело гвардии-поручика Петра Рословцева, который сначала подписал договор с крестьянами, и даже получил от них часть денег, а позднее отказался завершать юридическую процедуру увольнения их в «вольные хлебопашцы» и пытался возвратить денежные средства 2.
Наряду с понятием «собственность», еще одним понятием, используемым властью для описания перспектив развития России, было понятие « свобода ». Сравнительный анализ упоминаний о «свободе» в текстах манифестов, указов, положений и уставов показал, что политика верховной власти была столь же противоречивой, как и в случае с законодательным закреплением права на обладание собственностью. С одной стороны, объявлялось о расширении границ «свободы» личности, а с другой ‒ юридическое содержание «свободы» определялось политической и экономической целесообразностью и было дифференцировано в зависимости от сословной и национальноконфессиональной принадлежности.
Неотъемлемой частью «гражданской свободы», способствовавшей, по заявлениям верховной власти, развитию науки, литературы и искусства, являлась « свобода тиснения ». Указом от 9 февраля 1802 г. (Т. 27. С. 39‒40) было разрешено создавать частные типографии и ввозить книги из-за рубежа, а в новом «Уставе о цензуре» (1804 г.) провозглашалось, что «…благоразумное исследование всякой истины… не только не подлежит и самой умеренной строгости Цензуры, но пользуется совершенною свободою, возвышающею успехи просвещения» (Т. 28. С. 441). Однако практические действия власти по реализации принципа свободы печати были противоречивыми.
На протяжении нескольких лет был издан ряд нормативно-правовых актов, позволявших ограничивать свободу печати как по сугубо утилитарным, так и по политическим причинам. Примером ограничения свободы печати по финансовым мотивам является указ 8 декабря 1808 г., в котором под предлогом нехватки денежных средств для Сенатской типографии был введен запрет на переиздание в частных типографиях любых правительственных «узаконений». В случае нарушения этого запрета книги изымались из продажи без всякой компенсации материальных затрат владельцу типографии (Т. 36. С. 337‒338).
Ограничения свободы печати по политическим основаниям, чаще всего, налагались на журнальные статьи и книги, авторы которых либо «непозволительно резко» затрагивали проблему взаимоотношений крестьян и помещиков 3, либо критически вы- сказывались о деятельности властей 4. Более того, на уровне распоряжений правительства частным лицам было запрещено издавать учебные пособия для школ взаимного обучения. Так, например, в феврале 1821 г. министр народного просвещения А. Н. Голицын предлагал министру внутренних дел В. П. Кочубею принять решительные меры воздействия к Н. И. Гречу, который, игнорируя запрет на издание в частных типографиях «учебных таблиц» (за исключением «таблиц букв, складов» и «арифметических таблиц»), продолжал «свободно продавать» напечатанные им для школ взаимного обучения учебные пособия 5.
Поскольку авторами «недозволительных» публикаций были люди, находившиеся на военной или гражданской службе, в 1824 г. было принято принципиальное решение, существенно ограничившее «свободу печати» для данной категории населения: «…принять за правило, чтобы российские чиновники, находящиеся на службе, нигде и ни на каком языке не издавали в свет никаких сочинений, заключающих что-либо касающееся до внешних или внутренних отношений Российского государства» (Т. 39. С. 395). С этого времени, если у чиновника возникало желание издать свое сочинение, он сначала должен был получить письменное разрешение непосредственного начальства, а затем представить текст на рассмотрение цензора. Таким образом, провозглашенная в начале правления Александра I «свобода тиснения» к 1820-м гг. приобрела избирательный характер и распространялась только на издания неполитической направленности.
Важной составной частью «свободы», о необходимости законодательного оформления которой заявляла верховная власть, была «свобода вероисповедания». Как правило, такого рода нормативно-правовые акты были адресованы «иноверцам» и проживавшим в России иностранцам. Например, в указе 6 июля 1803 г. император напоминал представителям католической церкви в России о праве личности на «свободу вероисповедания» и недопустимости политики принуждения униатов к смене веры (Т. 27. С. 723). Право «иметь свободу веры» было прописано также в указе 12 апреля 1804 г. «О позволении помещикам водворять коло- нистов на своих землях» и «Высочайше утвержденном докладе министра внутренних дел о правилах для принятия и водворения иностранных колонистов» (Т. 28. С. 139).
Понятие «свобода» употреблялось не только в связи с объявлением «свободы тиснения» и «свободы вероисповедания», но и в более широком социально-экономическом контексте. В различных нормативноправовых актах, регулировавших экономические отношения, неоднократно подчеркивалось, что для развития российской экономики необходима « свобода торговли » (Т. 26. С. 584; Т. 32. С. 806–809; Т. 36. С. 350–352). Признавая свободу экономической деятельности важным фактором, способствующим достижению «общего блага», Александр I фактически проводил такую же двойственную политику, как и в отношении права собственности: с одной стороны, предоставил право торговли новым категориям российских подданных, а с другой ‒ не только сохранил, но и усилил сословную и внутрисословную дифференциацию.
Стремление власти расширить круг людей, занимавшихся торговлей, было отражено в нормативно-правовых актах, разрешающих крестьянам торговать в городах [Кашенов, 2007. С. 139]. Однако, учитывая многочисленные жалобы купечества на то, что данная мера разрушает дарованное им ранее монопольное «право торговли» 6, правила для торгующих в городах крестьян были предельно детализированы таким образом, чтобы исключить возможность усиления экономической конкуренции между двумя сословиями. В соответствии с указом 29 декабря 1812 г. «О дополнительных правилах для дозволения крестьянам производить разными товарами торговлю…» было разрешено «…свободно развозить и продавать в уездах и в городах сельские произведения, припасы и изделия…» (Т. 32. С. 491). Одновременно был введен прямой запрет на беспошлинную «…продажу несобственных своих произведений, и скупленных на сумму свыше двух тысяч рублей в год», так как право на такого рода торговлю имело мещанство и купечество (Т. 32. С. 491). Для торговли не своими товарами крестьянин должен был ежегодно заплатить государственную пошлину и получить именное тор- говое свидетельство. Несколько позднее, 31 января 1822 г., на тех же условиях право торговли в городах получили и дворовые люди (Т. 38. С. 52–53).
Направленность действий государства на дальнейшую внутрисословную дифференциацию прослеживается и в отношении купечества. В манифесте от 1 января 1807 г. «О дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к распространению и усилению торговых предприятий» (Т. 29. С. 971–979) власть не только подтвердила существовавшее ранее разделение купечества на три гильдии, но и учредила новую категорию ‒ «первостатейный купец» 7. Для каждой из них был установлен максимальный размер сделки по государственным подрядам и откупам. Например, купец 2-й гильдии теперь не мог быть допущен к подрядам и откупам, суммарный годовой размер которых в денежном выражении превышал 50 тыс. руб., а купец 3-й гильдии – к сделкам с годовым оборотом более 12 тыс. руб. (Т. 29. С. 976). В дальнейшем, осенью 1807 г., были повышены пороговые значения «объявленного капитала», необходимого для зачисления в гильдии: претенденты на звание купца 1-й гильдии должны были объявить о наличии у них 50 тыс. руб., 2-й гильдии – от 20 тыс. руб., 3-й гильдии – 8 тыс. руб. (Т. 29. С. 1321). Ограничения «свободы торговли» существовали и в отношении мещан: им было запрещено вступать в сделки с казной и участвовать в подрядах и откупах, а также предписывалось либо вести торг в пределах, предусмотренных ст. 140–144 «Городового положения», либо записываться в гильдии (Т. 36. С. 240–241).
Логическим завершением политики Александра I по юридическому закреплению права на «свободу торговли» для каждой категории российских подданных было издание 14 ноября 1824 г. «Дополнительного постановления об устройстве гильдий и торговле прочих состояний» (Т. 39. С. 588–612). В нем детально был представлен весь набор «прав и обязанностей» для каждой социальной страты рос- сийского общества. Предельно четко была описана процедура получения торговых свидетельств, введены ограничения по общей сумме товаров и числу используемых наемных работников, а также регламентирован ассортимент товаров, разрешенных к продаже крестьянами и мещанами в городах.
Кроме сословной и внутрисословной дифференциации, свобода торговли ограничивалась еще и национально-религиозной принадлежностью индивида. Такого рода ограничения были установлены: «Положением об устройстве евреев» (1804 г.), указами «О нераспространении на евреев, изданного для торгующих крестьян высочайшего положения 11 февраля и указа 29 декабря 1812 года» (1815 г.) и «О наблюдении за евреями, чтобы они не присваивали себе прав, по торговле им недозволенных» (1821 г.) (Т. 28. С. 731–737; Т. 33. С. 303–305; Т. 37. С. 579–581). В соответствии с этими документами место жительства и «свобода торговли» для евреев были ограничены территориями 15 губерний. За пределами этих губерний им было запрещено торговать, приобретать землю и обзаводиться хозяйством. Расширение прав могло произойти только в случае добровольного перехода в христианство (Т. 34. С. 119–123).
В совокупности все перечисленные выше ограничения закрепили положение, при котором торговля, как определенный вид хозяйственной деятельности, оказалась под жестким контролем государства, а декламируемая ранее «свобода торговли» трансформировалась в условную «свободу по инструкции». Такая детальная регламентация преследовала одновременно две взаимосвязанные цели. С одной стороны, государство получало возможность быстро и в полном объеме собирать различные налоги, пошлины и иные платежи с каждой категории экономически активного населения в зависимости от ее реальных доходов. В случае же устойчивой неспособности представителей какой-либо социальной или профессиональной группы выплачивать налоги государство могло, не изменяя положения других участников экономических отношений, лишить или существенно сократить их право на «свободу торговли». С другой стороны, детальная регламентация позволяла почти незаметно и безболезненно рас- ширять круг лиц, обладавших законными правами на торговлю посредством наделения представителей какой-либо социальной группы новыми привилегиями. Все это, по мнению Александра I, было оптимальным способом ускорения экономического развития и одновременно минимизации экономических конфликтов между представителями разных сословий.
Еще одна разновидность «свободы» в российском законодательстве первой четверти XIX в. ‒ « свобода перехода из одного состояния в другое », под которой понималась возможность перемещения человека в социальном пространстве. Формально власть неоднократно заявляла о такой возможности, но при этом единых правил «перехода» установлено не было, и для представителей каждой сословной, а иногда даже и внутрисословной группы, государство устанавливало особый порядок изменения социальной позиции [Фриз, 2000. С. 142–143].
Повышенное внимание к вопросам юридического оформления «свободы перехода» власть уделяла в отношении так называемых «податных состояний» – крестьянства, мещанства и купечества, так как именно эти категории населения являлись основным источником финансовых поступлений в казну, а следовательно, государство вынуждено было следить за тем, чтобы любые перемещения подданных в социальном пространстве не приводили к снижению общей суммы налоговых выплат. Так, например, в указе 18 апреля 1802 г. «О дозволении купцам и мещанам безуездных городов переписываться в государственные крестьяне» (Т. 27. С. 107–108) «свобода» трактовалась как возможность перехода российского подданного по собственному желанию в другое «состояние» в случае, если он не мог своевременно выплачивать все установленные законом налоги.
Сохранение фискальных интересов казны являлось основным условием реализации права на «свободу перехода» мещан и государственных крестьян в купечество. Порядок их «записи в новое состояние» четко определен указами 24 октября 1804 г., 14 июня 1808 г., 19 августа 1808 г. и 19 августа 1820 г. (Т. 28. С. 546–547; Т. 30. С. 325–326, 543–544; Т. 37. С. 420–423), в соответствии с которыми государственный крестьянин или мещанин, переходивший в купечество, должен был до следующей ревизии платить налоги как по «прежнему», так и по «новому состоянию». Исполнение данного условия предполагало, что крестьянин должен был получить «удостоверение увольняющего мирского общества, что на нем никаких поселянских повинностей и недоимок нет». Одновременно с этим необходимо было представить письменное согласие «принимающего градского общества», которое либо соглашалось платить подушную подать за своего нового члена до следующей ревизии по «прежнему его крестьянскому состоянию», либо могло требовать от него соразмерную денежную сумму. Очевидно, что подобные финансовые обязательства существенно затрудняли реализацию права на «свободу перехода в другое состояние», так как далеко не у всех, кто заявлял о желании изменить сословную принадлежность, были необходимые денежные средства. Общее количество крестьян, перешедших в мещанство и купечество в период с 1782 по 1811 г., было около 25 тыс. чел. [Миронов, 1990. С. 170–177].
Не менее сложной межсословная мобильность была для отпущенных на свободу частновладельческих крестьян. В отличие от государственных, обязанность платить за них подушную подать до новой ревизии возлагалась на помещика, а бывший крестьянин платил только то, что должен был по «новому состоянию» (Т. 37. С. 650–651). Такой порядок также не способствовал процессу раскрепощения крестьян, так как помещик вынужден был нести дополнительные расходы за освобожденного ранее работника. Если же право на «свободу перехода» реализовывал не крепостной крестьянин, а «свободный хлебопашец», полностью исполнивший в соответствии с указом 20 февраля 1803 г. все условия с бывшим своим помещиком, то он так же, как мещане и государственные крестьяне облагался двойному налогообложению до проведения следующей ревизии (Т. 38. С. 1342–1343).
Тесно связанным с вопросом о предоставлении российским подданным «свободы перехода в другой состояние» был вопрос о возможности обретения крепостными крестьянами и дворовыми людьми «личной свободы». Наряду с указом 20 февраля 1803 г., даровавшим помещикам право освобождать крестьян с землей за выкуп, в российском законодательстве было предусмотрено еще несколько вариантов освобождения крестьян без согласия их владельцев. В большинстве случаев все подобные акты возникали в результате удовлетворения прошений «о людях, отыскивающих свободу из помещичьего владения». Основанием для принятия таких решений было предшествующее законодательство, в соответствии с которым крестьяне, чьи предки не были записаны в крепостное состояние до завершения первых двух ревизий (1719 и 1744 гг.), могли стать свободными и перейти в «состояние» «вольных землепашцев», мещан или купечество.
Такая возможность существовала до 21 сентября 1815 г., когда был издан указ «О законах, коими должно руководствоваться при решении дел о людях, отыскивающих свободу из помещичьего владения» (Т. 33. С. 283–289). В нем впервые были сведены воедино и скорректированы все существовавшие ранее нормы об «отпуске на свободу» незаконно записанных в крепостные крестьяне людей. С этого времени основаниями для обращения к властям с прошением об освобождении могли быть следующие обстоятельства: 1) наличие документального подтверждения в том, что предки крестьянина лично выражали желание получить свободу и были записаны в крепостные после указов 1781 и 1783 гг., запрещавших закрепощение «вольных людей»; 2) предки крестьянина являлись иностранными военнопленными и были закрепощены после указов 1781–1784 гг.; 3) свободный человек был незаконно записан в крепостные после вступления в брак с крестьянином. Кроме этих общих условий, было предусмотрено множество «особых обстоятельств» для освобождения крестьян, «Великороссийских», «Полуденных» и «Малороссийских» губерний, а также «земель от Польши присоединенных». В таком виде возможность людей «отыскивающих свободу из помещичьего владения» достичь желаемой цели имела во многом условный, гипотетический характер.
На рубеже XVIII ‒ первой четверти XIX в. «свобода» и «собственность» как для государства, так и для отдельного индивида являлись своеобразными маркерами социальной идентификации, которые позволяли четко определить место человека в системе социальных отношений, границы его допус- тимого поведения и уровень возможностей для самореализации. Своеобразие положения в России начала XIX в. проявлялось в том, что власть сама инициировала вопрос о необходимости юридического закрепления права на свободу и собственность, но на практике это привело еще к большей социальной дифференциации. Фрагментарность, внутренняя противоречивость законодательства были отражением сословной и внутрисословной дифференциации российского общества, нечеткости разделения понятий «владение» и «собственность», а также существования логической взаимосвязи права собственности с личной «свободой» индивида, без которой его имущественные права были условными и могли существенно ограничиваться.
В сложившихся условиях реакция представителей образованной части российского общества на двойственность внутренней политики власти была не менее сложной и противоречивой. Руководствуясь самыми разными побудительными мотивами, наиболее активные российские подданные стремились преодолеть условность права на свободу и собственность, используя для этого диаметрально противоположные способы. Одни подавали на рассмотрение императора проекты конституции и записки о необходимости проведения либеральных реформ, освобождали принадлежащих им крепостных крестьян, а другие, напротив ‒ незаконно получали фактическое право полного распоряжения крепостными людьми под прикрытием их перехода «в учение» по «верющим письмам», или, прикрываясь красивыми рассуждениями о защите «свободы», создавали «тайные общества», члены которых, стремились к личному обогащению [Тимофеев, 2011. С. 418–420, 430–436]. На фоне противоречий между заявлениями верховной власти и практическими действиями государства одновременное сосуществование столь разнонаправленных моделей поведения российских подданных отражает особенности понимания в России первой четверти XIX в. европейских либеральных принципов. В каждом конкретном случае человек, принципиально признавая справедливость теоретических постулатов модных европейских мыслителей, в практических действиях руководствовался собственными убеждениями и потребностями.
Список литературы "Свобода" и "собственность" в российском законодательстве первой четверти XIX века: слова и реальность
- Долгих А. Н. Крестьянский вопрос во внутренней политике российского самодержавия в конце XVIII - первой четверти XIX в.: В 2 т. Липецк, 2006. Т. 1. 308 с.; Т. 2. 356 с.
- Кашенов А. Т. Основные направления законодательной политики российской империи в области предпринимательства во второй половине XVIII - первой половине XIX в. // Проблемы российской истории. М.; Магнитогорск, 2007. Вып. 7. С. 128-144.
- Миронов Б. Н. Русский город в 1740-1860-е годы: демографическое, социальное и экономическое развитие. Л.: Наука, 1990. 272 с.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е: В 45 т. СПб.: Тип. II Отд. собств. Е. И. В. канцелярии, 1830. Т. 26. 886 с.; Т. 27. 1210 с.; Т. 28. 1354 с.; Т. 29. 1392 с.; Т. 30. 1416 с.; Т. 32. 1132 с.; Т. 33. 1172 с.; Т. 34. 960 с.; Т. 36. 736 с.; Т. 37. 986 с.; Т. 38. 1356 с.; Т. 39. 694 с.
- Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1888. Т. 1. 578 с.
- Тимофеев Д. В. Европейские идеи в социально-политическом лексиконе образованного российского подданного первой четверти XIX века. Челябинск: Энциклопедия, 2011. 456 с.
- Фриз Г. Л. Сословная парадигма и социальная история России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара, 2000. С. 123-162.