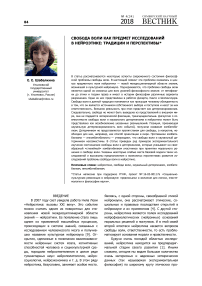Свобода воли как предмет исследований в нейроэтике: традиции и перспективы
Автор: Шабалкина Е. Е.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 4 (34), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые аспекты современного состояния философской проблемы свободной воли. Теперь эта проблема находится в центре предметной области нейроэтики, новой междисциплинарной области знаний, возникшей в культурной нейробиологии. Автор рассматривает проблему свободной воли как один из сквозных для всех уровней философского знания: от метафизики до этики и теории права, и имеет различные варианты разрешения в истории философии. Один из них представлен в работах Декарта, Канта и Шопенгауэра. В этой традиции свобода воли понимается как убеждение человека в том, что он является источником своего выбора и действий и несет за них ответственность. Внешняя реальность в этом случае выглядит как детерминистическая. Следовательно, свобода не может быть выведена из концепции внешнего мира, она не поддается эмпирической фиксации, она трансцендентна. Дискуссия о совместимости свободы воли и причинного детерминизма в нейроэтике может быть представлена как возобновление этих размышлений. Позиция, которая признает причинный детерминизм всех событий, называется комбатибилизмом. Детерминизм не является препятствием для свободы, а, наоборот, необходим ей, например, как способ ориентации в мире. Противники комбатилизма - некомбатилисты - утверждают, что свободная воля и причинный детерминизм несовместимы. В статье приведен ряд экспериментальных исследований соотношения свободы воли и детерминизма, которые указывают на некий «спонтанный» комбатилибализм участников в принятии морального решения о свободе воли. Автор раскрывает некоторые недостатки базовой модели таких исследований и делает предположения о возможных перспективах развития исследований проблемы свободной воли в нейроэтике.
Нейроэтика, свобода воли, каузальный детерминизм, комбатибилизм, инкомбатибилизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14114511
IDR: 14114511
Текст научной статьи Свобода воли как предмет исследований в нейроэтике: традиции и перспективы
В 2007 году свет увидела работа Нила Леви «Нейроэтика: вызовы XXI веку». Это событие можно считать одним из поворотных для становления новой междисциплинарной области знаний — нейроэтики. Ее появление стало лишь одним из проявлений масштабных процессов, происходящих в системе знаний, связанных с исследованием человеческого мозга и получивших название культурная нейронаука [9]. Открытия, сделанные в понимании взаимозависимости нейронных систем мозга, когнитивных способностей человека и социокультурной среды, породили нейроответвления в целом ряде гуманитарных наук: нейрополитология, нейросоциология, нейроэкономика и т. д. В этом ряду нейроэтика, безусловно, занимает особое место.
Являясь, с одной стороны, своеобразной этикой нейронауки, она рассматривает этические, социальные и правовые последствия открытий в нейронауке и их применения [4]. С другой стороны, нейроэтика является полем исследований нейрофизиологических (нейронных) оснований моральных решений и поступков. И в этой своей второй ипостаси нейроэтика касается вопросов свободы воли, ответственности, то есть пробле-матизирует основания морали и нравственности.
Будучи очень молодой областью исследований, нейроэтика находится на предпарадиг-мальной стадии своего развития [1]. Иными словами, сегодня мы видим большое количество очень интересных и надежных эмпирических данных (так называемая экспериментальная философия) по широкому кругу этических про- блем, наблюдаем попытки их теоретического осмысления (теории второго уровня), но не имеем устоявшейся системы критериев оценки полученных результатов и целостной систематической теории. Но именно это полемическое состояние дает ценный материал для размышлений по поводу основополагающих этических проблем, и прежде всего проблемы свободы.
МАТЕРИАЛЫ/МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проблема свободы воли, ее возможности и смысла, соотношения свободы и детерминизма (причинной обусловленности) является одной из коренных для всей философии. Вопрос о свободе относится к ряду так называемых открытых, то есть не имеющих своего окончательного разрешения (по крайней мере пока) ни с точки зрения философских конструкций, ни в рамках естественных и социально-гуманитарных наук [2, 6]. Проблема свободы может быть определена и как сквозная, связующая для разных уровней философского знания, соприкасающаяся с вопросами о материальном и духовном, субъекте и объекте, разуме и чувствах… Корнями своими она уходит в почву метафизики, базовых представлений об устройстве реальности и включенности в нее человека. В своем более конкретном, но не менее интересном звучании проблема свободы воли дает плоды в философской антропологии, эстетике, этике, теории права, теологии…
Из двух терминов «свобода» и «свобода воли» первый имеет более широкое смысловое значение и хождение. Свобода воли напрямую связана с размышлениями моральной философии и операционализируется через такие «индикаторы», как свобода выбора, свобода мысли, свобода действия. Не претендуя на полноту исторического анализа представлений о свободе воли, укажем лишь на одну из идей, нашедших отражение и в рационалистической, и в иррационалистической традиции.
Рационалистическая трактовка свободы восходит к философии Сократа и Платона. В Новое время она находит свое воплощение в рассуждениях Декарта. Не посвящая этике и проблеме свободы отдельных произведений, Декарт как бы вплетает их в метафизические и гносеологические построения. Для основоположника рационализма XVII века свобода — это свобода мышления, свобода сомнения, способность разграничивать истину и заблуждение, созидать истинные знания. Это созидание не является абсолютно автономным, поскольку разум в своей активности открывает те вечные ис- тины и ценности, которые заложены в существующем духовном и материальном бытие Богом [8]. Разум обнаруживает, а воля с необходимостью принимает их в силу самоочевидности и несомненности. Помимо рациональной сущности свободы Декарт обосновывает ее монопольночеловеческий характер. Внешний мир, будучи проявлением материальной субстанции, полностью подчинен физическим законам, заложенным Создателем, в нем нет свободы. Для человеческого разума сама идея свободы самоочевидна, «врождена». А следовательно, не выводима из опыта, из знаний о внешнем мире и имеет общечеловеческий характер. «В том, что в нас есть свобода… мы уверены настолько, что ничего не постигаем с большей ясностью, так что всемогущество Божье отнюдь не должно мешать нам чувствовать себя свободным» [3, с. 330].
Идея внутренней укоренённости чувства свободы в человеке является одним из важнейших положений в кантовской этике. Свободная воля понимается Кантом как способность человека быть источником собственных решений и поступков, разумно действовать вне зависимости или вопреки внешней причинности, быть автономным, в том числе и от собственной эгоистичной, «нерациональной» природы. Свобода воли осуществляет себя в рациональном выборе добра, в бескорыстном следовании внутреннему чувству долга. Кант в своих работах «Критика чистого разума» и «Критика практического разума» выявил антиномичность проблемы свободы воли и необходимости. С одной стороны, внутреннее ощущение свободы воли и связанной с ней ответственности за свои поступки, с другой — вывод о причинной обусловленности любого поступка и события, к которому приводит рациональный анализ. Эта антиномия есть свидетельство своеобразного дуализма мира вещей в себе и мира вещей для нас, ноуменального и феноменального. Постигая мир внешний с помощью чувственности и рационального созерцания, мы приходим к упорядоченной детерминированной картине мира. И человек как объект, феномен вписан в этот мир. Но, будучи одновременно субъектом, то есть вещью в себе, человек оказывается не познаваем, и свобода воли выступает как внутренняя убежденность, но не может быть рационально или опытно установлена.
Своеобразный отклик на кантовскую концепцию свободы воли мы находим у одного из основоположников иррационализма в XIX веке А. Шопенгауэра. Так же, как и для Канта, свобода у Шопенгауэра трансцендентальна, не ук- ладывается в рамки воспринимаемого мира. На фоне физической детерминированности мира и мотивационной определенности поступков человека, о свободе, тем не менее, явно свидетельствует внутреннее чувство. Это чувство вины и ответственности за то, какими мы являемся, выступает, по Шопенгауэру, прямым указанием на наличие свободы, не познаваемой при этом рационально [7].
Таким образом, в этической мысли остро был поставлен вопрос о соотношении свободы воли и внешней причинности. Обозначенная проблема до сих пор составляет предмет актуальных дискуссий, которые приобретают особую актуальность в связи с экспериментальными данными, полученными в нейрофизиологии в последние годы. Речь идет прежде всего об эксперименте Бенджамина Либета и его коллег 1989 года [11]. Испытуемому предлагалось двигать рукой при возникновении произвольного желания. Одновременно с помощью специальных приборов фиксировался так называемый «потенциал готовности», то есть мозговая активность, которая вызывает действие. Достоверно было установлено, что это мозговое событие наступает до того (разрыв измеряется долей секунды), как субъект осознает свое решение действовать.
В ряду подобных экспериментов можно выделить опыты Суна, указывающие на существенные временные расхождения между активностью мозга, теменной и префронтальной коры, и осознанным принятием решения по выбору из двух предложенных вариантов (разрыв составлял 7 сек.). В известном опыте Вегнера с «чужими руками» была показана диссоциация между реальным и кажущимся контролем за поведением, тем, как человек осознает действие и реальными действиями. Эти данные, по мнению Либета и других исследователей, демонстрировали, что мы не инициируем действие, а начинаем действовать и лишь несколько позже осознаем этот факт. Представления о сознательном контроле действий не отвечают реальному положению дел. В связи с полученными данными ученые формулируют примерно такие положения. Во-первых, свободная воля требует, чтобы наши действия были неопределенными. Во-вторых, исследования показывают, что мозг, который является причиной наших действий, является детерминированной системой. Следовательно, у нас нет свободной воли [11].
Эти аргументы являются лишь частью дебатов, которые ведутся на протяжении последних десятилетий по вопросу о соотношении свободы воли и определенной метафизической теории, чаще всего свободы воли и предопределения. Предопределенность может пониматься как божественное предопределение, природные и социальные законы или прошлые события, либо как мыслительные схемы, укорененные в сознании, или бессознательные импульсы. Позиция, признающая каузальную детерминированность всех событий, получила название комбатиби-лизм (Дж. Э. Мур). Ее сторонники считают, что всякое событие в мире имеет достаточное основание, у данного мира есть только одно прошлое и, соответственно, только одно будущее, но это не исключает свободы воли. Детерминизм не представляется препятствием для свободы, а напротив, необходим для нее, например, как способ ориентации в мире. Противники комбатибилизма — инкомбатибилисты — утверждают, что свобода воли и каузальный детерминизм несовместимы. Эта позиция приобретает две формы: либертинианство (Р. Кейн) и жесткий нкомбатибилизм (С. Смилянски, Д. Пере-бум). Первые отрицают наличие детерминизма и признают свободу воли. Вторые утверждают, что свободы воли нет, она не совместима ни с детерминизмом, ни с индетерминизмом [5]1. Для удобства ориентации в указанных позициях можно предложить следующую таблицу (см. табл. 1).
Таблица 1
Свобода воли и предопределение
|
Философские позиции Варианты выбора |
Комба-тиби-лизм |
Инкомбатибилизм |
|
|
Либер-тариан-ство |
Жесткий инкомба-тибилизм |
||
|
Детерминизм/инде-терминизм |
+/- |
-/+ |
+/+ |
|
Свобода воли |
+ |
+ |
- |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Можно предположить, что оппозиция ком-батибилизма — инкомбатибилизма выступает своеобразной реинкарнацией обозначенной выше традиции в философии морали (Декарт — Кант — Шопенгауэр), попыткой найти разрешение той же проблемы. Это возрождение связано, безусловно, с данными исследований так называемой экспериментальной философии в нейроэтике. Экспериментальная философия — это относительно новое направление, пытающееся сочетать философский анализ с достоверными экспериментальными данными. Хотя философы-экспериментаторы используют различные методы и ставят перед собой различные цели, одной из главных целей их исследований стали интуиции, лежащие в основе моральных выборов. Помимо вопроса о рациональном или эмоциональном характере оснований моральных решений, исследования касаются обыденных представлений, интуиций о совместимости свободной воли и моральной ответственности с причинно-следственным детерминизмом [10]. Важно понять, какими представлениями руководствуются люди в своем моральном выборе, являются ли эти интуиции индивидуальными или, наоборот, широко распространенными.
Приведем примеры некоторых из подобных экспериментов и посмотрим на оценки их результатов. В исследованиях испытуемым была представлена серия ситуаций, в которых люди совершают противоправные действия, например, грабят банк. В качестве условия оценки предложенной ситуации выдвигалась детерминированность всех событий. Затем участникам был задан вопрос о том, действовали ли люди в данных ситуациях по своей собственной воле и несут ли они ответственность за эти поступки. 76 % участников эксперимента решили, что герои ситуаций действовали по своей собственной воле, а 83 % ответили, что они морально достойны обвинений. Сходные результаты были получены при оценке морально достойных и морально нейтральных сценариев. В другом эксперименте испытуемые были разделены на две группы. Одним предлагался абстрактный вопрос: могут ли люди нести полную моральную ответственность за свои действия в детерминированной Вселенной. Здесь подавляющее большинство (86 %) участников ответили «нет». Другой группе предстояло вынести решение о конкретной ситуации, происходящей в таком же мире. В ней некий человек по имени Билл убивает свою жену и детей, сжигает свой дом, чтобы быть со своей секретаршей. При таких условиях 72 % испытуемых ответили, что Билл несет полную моральную ответственность за свое поведение [12]. Иными словами, когда мы рассматриваем проблему абстрактно, определенный набор когнитивных процессов приводит нас к выводу, что детерминизм не совместим со свободным и ответственным действием. Конкретизация ситуации включает другой набор процессов, который, возможно, становится более эмоциональным и заставляет нас выносить преступнику безоговорочный приговор.
На наши интуиции в отношении свободы воли и ответственности, помимо степени конкретизации ситуации, может влиять фактор психологической дистанции, то есть расстояние (во времени и пространстве) между испытуемыми и предложенной для анализа ситуацией, а также некоторые психологические особенности самих испытуемых. Так, например, была показана значительная корреляция между признаком экстраверсии у испытуемых и их готовностью приписывать свободу воли и ответственность за определенное поведение в условии детерминированности мира. В приведенных экспериментах причинность явлений задавалась как постоянная переменная, но при этом не уточнялось, о какой причинности идет речь. Между тем другие исследования показали, что тип причинности является немаловажным фактором при принятии моральных решений. Так, участники эксперимента чаще склонны освобождать действующих лиц от ответственности за преступления, когда причины их действий носят физиологический (например, химический дисбаланс) характер, а не социальный или психологический (например, оскорбительное поведение родителей). В других исследованиях также было обнаружено, что если принятие решения и поступок героя ситуации были объяснены нейро-биологическими процессами, это чаще приводило к отрицанию у него свободы воли, чем в случае психологической причинности [12].
ВЫВОДЫ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
В современных исследованиях свободы воли и ответственности сформировался определенный базовый подход, на основании которого моделируются эксперименты. Этот подход может быть выражен в следующих тезисах:
-
1. Выбирается определенная переменная, которая по гипотезе авторов влияет на характер моральных интуиций. Это может быть степень абстрактности ситуации, ее отстраненность во времени и пространстве, тип темперамента или степень эмоциональности испытуемого или тип причинности в предложенной ситуации.
-
2. В качестве исходного условия полагается тезис о детерминированности событий в мире или предлагается представить, что было бы, если бы это было так.
-
3. Предлагается ситуация, по которой испытуемым следует вынести моральное решение о свободе воли и ответственности за опреде-
- ленное поведение (чаще всего предлагается вариант серьезного правонарушения).
Эта экспериментальная модель берет начало в исследованиях Николсона и Кнобе 2007 года. Она, за несколькими исключениями, принята в экспериментальной философии в вопросе исследования свободы воли. Как интерпретируются результаты подобных исследований? Могут ли они пролить свет на традиционный философский вопрос о свободе человека? Оставим «за скобками» спорность самого тезиса о детерминированности событий в мире, очевидную сложность для понимания этого научно-философского мировоззренческого положения на уровне обыденного сознания, искусственность предлагаемых к анализу ситуаций (какими бы конкретными не были описанные в них события), их стандартность при предъявлении представителям разных культур и субкультур. Наиболее интересными, на наш взгляд, являются выводы о «стихийном» комбатибилизме многих участников экспериментов. Это означает, что большинство из нас признает наличие свободной воли и, как следствие, ответственности за свои поступки даже при условии каузальной детерминированности событий. Эти данные, по-видимому, указывают на то, что представление о наличии у человека способности выбирать и действовать в соответствии с выбором, некая автономия человека от внешней и даже внутренней причинности очень глубоко укоренены в нашем сознании (возможно, на уровне нейроструктур) и воспринимаются как неотъемлемая характеристика человека, даже если все остальные проявления реальности такого выбора альтернатив будущего не подтверждают. Можно предположить, что в этих исследованиях находит подтверждение кантовская идея о человеке как о субъекте, способном совместить в себе два способа существования: включенное в при- чинно-следственные связи, детерминированное и свободное, автономное. И так как исследуются моральные интуиции обыденного сознания, следовательно, именно каждодневный опыт волевых решений, мук выбора является решающим подтверждающим фактором таких представлений о наличии свободы воли.
РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ)
Результаты исследований свободы воли в нейроэтике позволяют говорить об их возможных перспективах. С одной стороны, можно говорить об их спорности, неоднозначности. Небезупречна и разработанная экспериментальная модель. С другой — они чрезвычайно интересны, значимы и указывают на обширное поле возможных направлений развития. Можно ли сказать, что проблема совместимости/несов-местимости причинности и свободы воли является наиболее важной? Не подменяем ли мы в данном случае проблемы конкретного морального выбора, которая имеет экзистенциальный характер, проблемой метафизической и абстрактной? Споря о наличии свободы воли, не менее важным является понимание, что она из себя представляет, то есть что есть свобода в своих конкретных проявлениях. Можно ли считать, что «норма» свободы — это самоконтроль, подчинение эмоций разуму или совершенно обратное состояние? Является ли наше представление о свободе универсальным или оно культурно нагружено и находят ли эти культурные особенности отражение на нейронном уровне? Проблема свободы воли имеет непосредственный выход на вопрос состоятельности морали и правовой системы. И разрешение этих вопросов требует и нейробиологической экспертизы, и философского осмысления.
Список литературы Свобода воли как предмет исследований в нейроэтике: традиции и перспективы
- Бажанов В. А. Проблема поиска нейрофизиологических оснований морали: нейроэтика / В. А. Бажанов, Е. Е. Шабалкина // Философские науки. — 2017. — № 6. — С. 64—79.
- Гриб А. А. Квантовый индетерминизм и свобода воли / А. А. Гриб // Философия науки и техники. — 2009. — Т. 14, № 1. — С. 5—24.
- Декарт Р. Об основах человеческого познания : соч. : в 2 т. / Р. Декарт. — М. : Мысль, 1989. — Т. 1. — 654 с.
- Иллес Дж. Нейроэтика: этика нейронауки в современном контексте / Дж. Иллес, С. Дж. Бёрд // Человек. — 2015. — № 6. — С. 5—23.
- Мишура А. Поле битвы: свобода воли / А. Мишура // Логос. — 2016. — Т. 26, № 5. — С. 19—58.
- Менский М. Б. Квантовая механика, сознание и свобода воли / М. Б. Менский // Философия науки и техники. — 2009. — Т. 14, № 1. — С. 53—63.
- Прокофьев А. В. Нравственность и свобода воли (Кант — Шопенгауэр — Фейербах) / А. В. Прокофьев // Этическая мысль. — М. : Ин-т философии РАН, 2009. — Т. 15, № 2. — С. 159—182.
- Сартр Ж.-П. Картезианская свобода / Ж.-П. Сартр // Логос. — 1996. — № 8. — С. 17—31.
- Фаликман М. В. «Культурная революция» в когнитивной науке: от нейронной пластичности до генетических механизмов приобретения культурного опыта / М. В. Фаликман, М. Коул // Культурно-историческая психология. — 2014. — Т. 10, № 3. — С. 4—18.
- Bzdok D. The Neurobiology of Moral Cognition: Relation to Theory of Mind, Empathy, and Mind-Wandering / D. Bzdok, D. Groß, S. B. Eickhoff // Handbook of Neuroethics. — Dordrecht, Heidelberg, N. Y., London : Springer, 2015. — P. 144—145.
- Levy N. Neuroscience Free Will, and Responsibility: The Current State of Play / N. Levy // Handbook of Neuroethics / Eds. Clausen J. Levy N. — Dordrecht, Heidelberg, N. Y., London : Springer, 2015. — P. 203—209.
- Sommers T. Free Will and Experimental Philosophy: An Intervention / T. Sommers // Handbook of Neuroethics / Eds. Clausen J. Levy N. — Dordrecht, Heidelberg, N. Y., London : Springer, 2015. — P. 273—286.