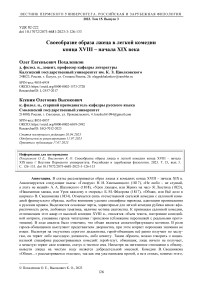Своеобразие образа лжеца в легкой комедии конца XVIII - начала XIX века
Автор: Похаленков О.Е., Высокович К.О.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается образ лжеца в комедиях конца XVIII - начала XIX в. Анализируются следующие пьесы: «Говорун» Н. И. Хмельницкого (1817), «Не любо - не слушай, а лгать не мешай» А. А. Шаховского (1818), «Урок лжецам, или Жених на час» Я. Люстиха (1823), «Наказанная ханжа, или Урок каждому в очередь» Б. М. Фёдорова (1817), «Обман, или Всё дело в ширмах» В. Свешникова (1834). Отмечается связь отечественной светской комедии с салонной комедией французского образца, особое внимание уделено специфике перевода, адаптации произведения к русским нравам. Выделяются основные черты, характерные для легкой комедии рубежа веков: афористичность речи, любовная тематика, наличие мотива сватовства. К признакам салонной комедии, отличающим этот жанр от высокой комедии XVIII в., относятся: объем текста, построение комедийной интриги, узнавание героев читателями / зрителями (сближение персонажей с реальными прототипами). В ходе анализа было отмечено, что обман является сюжетообразующим мотивом. В роли героев-обманщиков выступают представители дворянства, при этом возраст персонажа значения не имеет. Несмотря на отсутствие строгого дидактизма, герой-обманщик всё равно получает по заслугам, он теряет либо выгодную должность, либо невесту. Таким образом, можно говорить о национальной специфике рассматриваемых комедий: герой-плут, обманщик, лжец ничего не получает, а зачастую теряет свое влияние, статус и честное имя. Несмотря на негативное отношение к обману, вывести лжеца на чистую воду является добродетельной миссией. Комедия В. Свешникова «Обман…» рассматривается отдельно, так как она уже написана прозой, а не в стихах, помимо этого, роль лжеца исполняет женский персонаж. В пьесе словесный комизм подменяется действенным: героиня не уличена в речевых двусмысленностях, как другие персонажи.
Легкая комедия, образ лжеца, я. люстих, н. и. хмельницкий, а. а. шаховской, в. и. лукин, б. м. фёдоров, в. свешников
Короткий адрес: https://sciup.org/147241900
IDR: 147241900 | УДК: 82-222 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-3-126-133
Текст научной статьи Своеобразие образа лжеца в легкой комедии конца XVIII - начала XIX века
В работе рассматривается реализация образа героя-обманщика в русской комедии конца XVIII – первой половины XIX в. Образы лжецов и болтунов активно появляются во второй половине XVIII в., например, в оригинальной пьесе Я. Б. Княжнина «Хвастун» (1784–1785), в комедии М. И. Прокудина-Горского «Самохвал» (1773), а также в пьесе В. И. Лукина «Пустомеля» (1765), представляющей собой переделку комедии Луи де Буасси “Le Babillard” («Болтун»). Позднее многие из них найдут отражение и в творчестве комедиографов начала XIX в. – Н. И. Хмельницкого, А. А. Шаховского, А. С. Грибоедова, Я. Люстиха и др.
Несмотря на небольшой временной промежуток, между классицистическими и светскими комедиями есть ряд значимых отличий. Влияние французской культуры на становление жанра легкой комедии в России отмечалось многими исследователями (А. Вольф, Л. И. Вольперт, Ю. В. Стенник, О. В. Мокина и др.). Ю. В. Стен-ник в работе «Комедия 1800–1820-х» пишет: «События 1805–1807 гг., а позднее Отечественная война 1812 г. ослабили на какой-то момент влияние французской драматургии. Но уже с конца 1810-х годов <…> увлечения переделками комедий и водевилей французских авторов XVIII в. снова захлестнули русскую сцену» [Стенник 1982: 222]. О характере переводов вновь появившихся пьес О. В. Мокина замечает: «В то время авторы, принимаясь за переделку французских комедий, всё чаще сокращали их содержание, всё больше удалялись от затрачивавшихся там серьёзных общественных тем. В результате комедии уподоблялись, по сути, водевилям – лёгким, не обременённым социальными проблемами пьесам с музыкой, куплетами и переодеванием» [Мокина 2014: 20].
Помимо связи с французской культурой, легкую комедию определяет целый ряд признаков: основной темой светской пьесы являются вопросы любви, флирта, измены; персонажи – светские молодые люди дворянского происхождения; в комедии отсутствует строгое назидание, характерное для пьес эпохи классицизма; внимание драматургов уделяется легкости и афористичности речи, «словесный комизм постепенно вытесняет буффонаду, действенный комизм» [Мо-кульский 1956–1957].
Легкая комедия, как правило, представляет собой «одноактную пьесу в стихах. Ее стихо- творная форма становится знаком новой по сравнению с 1780–1800 годами эстетической ориентации в освоении жанра комедии: в 1810–1820-е годы оформляется оппозиция “стих – проза”, и за “стихом” закрепляется сфера “благородной” комедии» [Рогов 1992: 10].
Одной из черт светской комедии является ограничение жанровых моделей, выделяют две разновидности: «Первая группа представлена комедиями, в центре сюжета которых разоблачение всякого рода чудачеств и комических странностей (лживости, прожектерства, нерешительности, болтливости, заносчивости и т. д.), своеобразный урок герою-чудаку» [Александрова 2012]. Вторая группа характеризуется тем, что «их фундамент составляет собственно любовная интрига и связанные с нею недоразумения, заблуждения героев. Авторов интересует прежде всего воспроизведение на сцене личностных отношений людей и их чувств» [там же].
Связь с жизнью, соотнесенность персонажей с реальными прототипами является еще одной чертой салонной комедии, которую выделил М. О. Янковский: «Непосредственный контакт между героями “благородных” комедий и зрителями происходит все время» [Янковский 1964: 27]. В статье «Грибоедовская Москва в творчестве В. Л. Пушкина» Н. И. Михайловой отмечено следующее: «В письмах В. Л. Пушкина – мастерски написанные портреты москвичей. Их знал Грибоедов. Они могли узнать себя в героях “Горя от ума”» [Михайлова 1994: 99].
Для легкой комедии, как известно, характерен тип героя-лжеца. Мы рассмотрели пьесы Н. И. Хмельницкого «Говорун» (1817), А. А. Шаховского «Не любо – не слушай, а лгать не мешай» (1818), Я. Люстиха «Урок лжецам, или Жених на час» (1823) и еще одну комедию урока Б. М. Фёдорова «Наказанная ханжа, или Урок каждому в очереди» (1817). Особняком в этом ряду стоит пьеса В. Свешникова «Обман, или Всё дело в ширмах» (1834), по времени она ближе к легкой комедии, но написана прозой, и сюжет в ней разворачивается в трех действиях, хотя специфика светской комедии предполагает стремительную интригу, которая вмещается в одно действие.
Обратимся к комедии Н. И. Хмельницкого «Говорун», в которой заголовок уже отражает характер главного героя. Фамилия также считается говорящей, служанка Лиза первая раскрыва- ет черты личности графа Звонова: «Язык же у него – ну сущая трещотка: // Стучит, кричит, гремит, такой подымет звон, // Что, право, хоть кого бежать заставит вон!» [Стихотворная комедия… 1990: 421]. Лиза, выполняющая функцию субретки, дает оценку другим персонажам пьесы.
В одноактной пьесе реализуется модель классического любовного треугольника, есть два претендента на руку молодой вдовы Преле-стины, но ее судьба зависит от решения ее тетушки Чвановой. Помимо любовной интриги, Н. И. Хмельницкий создает коллективный портрет старшего поколения, напоминающий «фаму-совскую Москву» А. С. Грибоедова. Именно представительницы старшего поколения (в пьесе граф Звонов называет их «московскими старушками») развенчивают героя-обманщика.
В комедии прослеживается оппозиция: ум – глупость, речь – молчание. Все лучшие черты: ум и умение выражать свои мысли – граф Звонов видит в себе, об остальных героях он говорит пренебрежительно.
Граф Звонов: «И место самое, которое просил, // Которое умом и кровью заслужил!» [там же: 429]; «Меня ли вам учить? когда я был трех лет, // Так я уж говорил гораздо вас бойчее, // И громче, и скорей, и лучше, и вольнее!» [там же: 431].
Граф нелицеприятно отзывается о представительницах старшего поколения, называя их «вздорными болтушками» [там же: 447].
Граф о Модестове: «Нельзя ли помолчать? Я говорю, конечно, // И лучше и скорей…» [там же: 431].
Другие персонажи, наоборот, не видят тех достоинств, которые приписывает себе граф. Например, Чванова замечает следующее: «Вот ловкость, вот ваш ум, вот ваша острота: // Почтенной женщине не дать разинуть рта!» [там же: 444].
Лиза: «А он несносный враль, он общества мученье!» [там же: 422], также она подмечает лицемерие героя: «В чем нынче уверял, в том завтра отопрется, // Злословье и хвалы он мастер сочинять» [там же: 421].
Модестов: «Так больше хлопотать и меньше говорить: // Болтанье лишнее и скучно и несносно...» [там же: 431].
В пьесе осуждается поведение графа Звонова, так как оно несвойственно мужчинам, такая черта, как болтливость, строго закрепляется за женскими персонажами: «болтливый муж всегда с женой бранится» [там же: 425], «дар молчания наука не по нас…» [там же: 428].
Образ светского общества показан автором в лице Чвановой и ее подруг Свахиной, Вестиной, Вздоркиной, Споркиной, Громовой, которые об- суждают местные сплетни. Сплетня – это «слух о ком-нибудь, основанный на заведомо неверных, ложных сведениях» [Скворцов 2009: 804]. Таким образом, мотив обмана реализуется в поведении представителей не только младшего поколения, но и старшего.
Образ лгуна появляется и в творчестве А. А. Шаховского в комедии «Не любо – не слушай, а лгать не мешай» (1818). Пьеса написана вольным стихом (т. е. разностопным ямбом), известно, что «это был первый и единственный опыт подобного размера до “Горя от ума”» [Степанов 1941: 306].
В примечании к «Стихотворной комедии, комической опере, водевилю конца XVIII – начала XIX века» отмечено: «Современники утверждали, что образ главного героя комедии Зарницки-на восходит к пьесе Пьера Корнеля “Лгун” (1643). Однако широко распространенную в мировой литературе тему Шаховской разработал, не столько опираясь на давнюю традицию, сколько используя житейские факты современности. Фигура лжеца списана не с Корнелева Леандра, но с Павла Петровича Свиньина…» [Стихотворная комедия… 1990: 745]. П. П. Сви-ньин был заметной фигурой своего времени, он был известен как дипломат, писатель, этнограф, а также издатель журнала «Отечественные записки». А. А. Гозенпуд отметил сходство между Зарницкиным и его реальным прототипом: «Так, Зарницкин, служа во флоте, будто бы совершил чудеса храбрости. То же рассказывал о себе и Свиньин. Турецкие ядра и пули отскакивали от него; он падал с корабля в море, намокшая одежда тянула его на дно, но он спасся [Свиньин 1818]. Описывая в качестве очевидца гибель генерала Моро, Свиньин говорит: “Ядро, оторвавшее ему правую ногу, пролетело сквозь лошадь, вырвало икру у левой ноги и раздробило колено” [Свиньин 1815: 138]. И Зарницкин распространяется о бомбе, будто бы попавшей в его лошадь, и о картечи, залетевшей ему в рот. По словам Сви-ньина, тот встречался со всеми выдающимися деятелями своего времени, в частности, бывал в Париже в салоне мадам Рекамье (как и Зарниц-кин)» [Стихотворная комедия… 1990: 746].
В «Летописи русского театра» о реакции зрителей на пьесу сообщено следующее: «Эта пьеса имела большой успех и вскоре была повторяема на домашних сценах» [Арапов 1861: 268].
Перейдем непосредственно к анализу самого произведения, в котором мотив обмана является ведущим при характеристике действий Зарниц-кина. В пьесе отсутствует система оппозиции ложь – правда, однако стоит отметить, что дядя и племянник явно противопоставлены друг другу.
Мезецкий – человек долга, военный. Зарницкин служил «волонтёром» в пехоте, коннице, а также в казаках. Характеристику обоим персонажам дает служанка Дарья. О Мезецком она говорит: «Но честен, добр, не лгун и, словом, редких правил, // Да в нем один порок: что так влюблен...» [Стихотворная комедия… 1990: 370], – а о Зарницкине: «Ай! наш племянник лгун!» [там же: 365].
Зарницкин апеллирует к второстепенным и внесценическим персонажам для доказательности своих слов: «За правду часто я в лгуны попасть боюсь; // Но в этом случае на целый город шлюсь» [там же: 384].
Мезецкий решает проучить лгуна его же оружием, что привносит в пьесу дидактический элемент: «Сегодня ж я его так явно лгать заставлю, // Что даже и сестра поверит, что он лгун» [там же: 395].
Зарницкин не видит собственных недостатков, но отмечает лицемерие других персонажей (двух внесценических и самого Мезецкого): «Ты много лгал, // Я все тебе спускал, // А мне солгать и разу не дозволишь» [там же: 411].
Мотив обмана появляется в действиях не только младшего поколения, но и старшего. Так, отношения между Хандриной и родственниками княгини Лидиной были испорчены злыми языками: «…я вчера // Успела матушке открыть насказы, сплетни, // Чем перессорили сестрицу вашу с ней // Московские разносчицы вестей» [там же: 394].
Образ лжеца ярко представлен в комедии Я. Люстиха «Урок лжецам, или Жених на час». В пьесе реализуются сразу две сюжетные модели, причем трудно выделить, какая из них становится основной: мотив сватовства или склонность героя Хвалитского младшего ко лжи. Н. Е. Ерофеева определила пьесу Люстиха как комедию «урока», для которой характерно «сочетание вопросов воспитания добродетели в семье с общенациональной идеей утверждения всего русского в общественной и частной жизни. Драматурги высмеивали галломанствующих господ, обращали внимание зрителя на негативные стороны светского воспитания вообще» [Ерофеева 2006].
В комедии действует ограниченный круг лиц: Аглаева – хорошенькая вдова и уже невеста, Хвалитский-старший – морской офицер, жених, Хвалитский младший – младший брат, влюблен в Аглаеву, Груша – горничная Аглаевой, выполняющая функцию субретки, Ипат – слуга и камердинер Хвалитского младшего.
Мотив обмана является ведущим в комедии, именно он и создает сюжетную коллизию:
«Лжецы стыда не знают;
Они живых людей заочно отпевают» [Люстих 1823].
Хвалитский-младший, желая жениться на Аг-лаевой, врет, что старший брат погиб на службе. Комедии, относящиеся к этой жанровой модели, реализуются сходным образом, в них главной задачей становится обман лжеца.
Аглаева: «Скажи; я рано так его не ожидала,
А лучше если б ты сама лжецам налгала» [там же].
Основная роль в комедии отводится служанке Груше, которая руководствуется интересами хозяйки. Камердинер Хвалитского выполняет ту же функцию в тексте (зачастую именно слуги участвуют в розыгрышах). В финале комедии обман оказывается раскрыт, братья примиряются. Ипат делает предложение Груше, но получает отказ, хотя многие комедии зачастую заканчивались двойной свадьбой.
В комедии Б. М. Фёдорова «Наказанная ханжа, или Урок каждому в очередь» сюжет также строится вокруг мотива обмана, однако мотивация героя сложнее, чем в предыдущих пьесах. Баронесса Ханжова хочет выдать дочь своей подруги за выгодного ей человека Рецензина, выставив в неблагоприятном свете возлюбленного девушки – графа Ветрова. По сюжету практически всем персонажам приходится примерить на себя маску лжеца: Ханжина распускает слухи про неверность графа Ветрова и его женитьбу на другой, обманывает тем самым Легковерову и ее племянницу Лизу, на лжи строятся и ее отношения со Стихолюбовым и Рецензиным. Лиза принимает участие в розыгрыше и намеренно держится холодно по отношению к графу Ветрову. Граф Ветров поддерживает обман Ханжовой о его свадьбе, чтоб позднее вывести ее на чистую воду. Рецензин оказывается двуличным критиком, он пишет эпиграммы и сатиры на неугодных Ханжовой, однако она сама становится персонажем его опуса:
«Зачем ругает свет Ханжова?
За тем, что умирать готова.
Чтоб нас оставила, того здесь всякий ждёт,
Её ж давно оставил свет!» [Фёдоров 1817: 87]
Отдельную роль в произведении играет высший свет, который обсуждают герои, именно он воспринимается ими как рассадник лжи и порока:
«Не в силах против чувств пред светом притворяться» [там же: 49], «Не новое, что стал непостоянен свет» [там же: 13], «Свет грешный и лукавый! // К погибели ведут – развратные нас нравы. // Толь было в старину? В каких мы временах? // Какие люди здесь? Потонем во грехах!» [там же: 29].
В пьесе есть аллюзии к другим произведениям «комедии-урока», например, к «Липецким водам» А. А. Шаховского: «Амур мне заградил дорогу на Парнас, // Но слышно, как шумят там Липецкие воды» [Фёдоров 1817: 32]. В споре между Стихолюбовым и Рецензиным поэт отмечает тенденцию современных драматургов к показу пороков общества:
«Вы знаете, что все хотят бранить пороки, И для того дают одни другим уроки. – И тёткам в очередь досталось, и мужьям, И прежде был урок прекрасный дочерям…» [там же: 64].
Здесь автор намекает на несколько образцов комедии-урока: «Урок мужьям, или Сумасбродное испытание» И. Вольберха (1809), «Урок женам, или Домашняя тайна» по комедии О. Крезе де Лессе А. Волкова (1812), «Урок дочкам» И. А. Крылова (1807); в продолжении цитаты упоминаются «Урок кокеткам, или Липецкие воды» А. А. Шаховского (1815), «Комедия против комедии, или Урок волокитам» М. Н. Загоскина (1815).
В комедии прослеживается противопоставление между мужской и женской хитростью: «ведь женщины всегда мужчин хитрее» [там же: 45]. Однако в финале комедии побеждает правда, весь обман Ханжовой вскрывается. Комедия отходит от традиционного жанрового канона, ведь обманщиком является не прямой соперник героя Рецензин, а его покровительница Ханжова. Помимо этого, в пьесе обнаруживается два обманщика (Ханжова и Рецензин), именно из-за их конфликта и рушится вся сделка.
«Обман, или Всё дело в ширмах» – оригинальная русская комедия в трех действиях. Слово обман вынесено в заглавие неслучайно, именно этот мотив будет ведущим в комедии. Основное содержание комедии сводится к следующему: богатый купец Александр Петрович влюбляется в таинственную незнакомку Амалию, которую он увидел в ложе театра. Проследив за ней, он узнает, где живет дама сердца, и направляет своего слугу Алексея выяснить хоть что-то о ней. Слуга не только получает приглашение от Амалии для своего хозяина, но и влюбляется в ее горничную Груню. Помимо честного и сошедшего с ума от любви Александра Петровича, у Амалии есть еще два ухажера: Загорецкий – богатый помещик пожилых лет и Адольф – молодой человек, в которого влюблена сама хозяйка, но он беден и не желает работать.
Комедия разрывает несколько устоявшихся жанровых перипетий. Обманщиком является не мужчина, а женщина. Обман сводится не к словесному комизму: Амалия не выдумывает неве- домые предметы, ее обман заключается в конкретных действиях. Она берет крупную сумму денег у Александра Петровича, при этом живет за счет Загорецкого, имеет нескольких любовников.
Субретка Амалии Груня не поддерживает свою хозяйку, а решает помочь Александру Петровичу, желая выйти замуж за его слугу, понимая непрочность своего положения в доме Амалии. Александр Петрович не может поверить, что милая Амалия могла его обмануть: «…неужели глаза твои так обманчивы и обольстительные черты лица твоего замаскировываются часами? Я не поверю…» [Свешников 1834: 87]. Чтобы не осталось сомнений, горничная пускает в дом Александра Петровича и прячет его за ширмой, откуда он видит хозяйку с Загорецким, а позднее с Адольфом. В финале все мужчины узнают друг о друге, а Александр Петрович примиряет спорщиков: «Обман теперь не торжествует – и хитрости кокетки изобличены явно. Оставимте ее в презрении и забудемте ее на век» [там же: 100]. Свадьба или намек на нее сохраняется, несмотря на неудачу купца, он благодарит Груню и Алексея за помощь и обещает устроить их счастье.
Жанр легкой комедии становится популярным в 30–40-е гг. XIX в., проблематика произведений связана с вопросами любви, флирта и адюльтера, поэтому во всех комедиях присутствует мотив сватовства / женитьбы. Несмотря на то что светская комедия отходит от дидактизма, поведение обманщика порицается / наказывается: он не получает ни выгодную должность, ни невесту («Пустомеля» В. И. Лукина, «Говорун» Н. И. Хмельницкого, «Не любо – не слушай, а лгать не мешай» А. А. Шаховского, «Урок лжецам, или Жених на час» Я. Люстиха). Мотив обмана зачастую связан с неуместным хвастовством героя, доходящим до абсурда; таковы, например, слова Зарницкина об эластичном фарфоре: «Фарфор фарфору рознь, а этот – эластик, // То есть он гнется как хотите…» [Стихотворная комедия… 1990: 405]. Ложь вскрывается, в роли обличителя выступает родственник (брат, дядя) или соперник героя. В ряду рассматриваемых комедий выделяется пьеса В. Свешникова «Обман, или Всё дело в ширмах». Во-первых, в роли обманщика выступает героиня, что было не характерно для русской литературы того времени. Л. И. Вольперт в исследовании «Пушкин и французская комедия XVIII в.» отмечает: «Соблюдение “морали” – первое требование, предъявляемое к комедии, и в особенности в отношении поведения на сцене светской женщины. Ей дозволено участие в любовных “шалостях” лишь в строго очерченных границах. В “розыгрышах” заняты лишь вдовы и девицы; жены участвуют в них только тогда, когда надо дать урок “обожаемому” супругу» [Вольперт 1979: 179]. Ключевым словом является розыгрыш, зачастую это мнимый обман, искусственно созданный с целью вызвать героя на чувства. Использование похожих приемов можно найти в комедии А. С. Грибоедова «Молодые супруги», Н. И. Хмельницкого «Взаимные испытания». Во-вторых, мотив обмана связан с материальными трудностями героини и никак не связан с чрезмерным хвастовством или болтливостью, как в рассматриваемых комедиях А. А. Шаховского и Н. И. Хмельницкого.
Список литературы Своеобразие образа лжеца в легкой комедии конца XVIII - начала XIX века
- Александрова И. В. «Легкая» комедия в жанровой системе русской драматургии первой трети XIX века // Вопросы русской литературы. 2012. № 20(77). URL: https://cyberleninka.ru/ar-ticle/n/legkaya-komediya-v-zhanrovoy-sisteme-russ-koy-dramaturgii-pervoy-treti-xix-veka (дата обращения: 08.05.2023).
- Арапов П. Н. Летопись русского театра. СПб.: Изд-во Н. Тиблена и К°, 1861. 386 с.
- Вольперт Л. И. Пушкин и французская комедия XVIII в. // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР; Ин-т рус. лит. Л.: Наука (Ле-нингр. отд-ние), 1979. Т. 9. С. 168-187.
- Ерофеева Н. Е. «Урок дочкам» И. А. Крылова: жанр комедии «урока» // Знание. Понимание. Умение. 2006. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/urok-dochkam-i-a-krylova-zhanr-komedii-uroka (дата обращения: 10.05.2023).
- Люстих Я. Урок лжецам, или Жених на час. 1823. URL: http://Hb.sptl.spb.ru/ru/nodes/12231-lyustih-ya-urok-lzhetsam-ili-zhenih-na-chas-1823# mode/inspect/page/5/zoom/4 (дата обращения: 10.05.2023).
- Михайлова Н. И. Грибоедовская Москва в творчестве В. Л. Пушкина // Проблемы творчества А. С. Грибоедова. Смоленск: ТРАСТ-ИМАКОМ, 1994. С. 96-102.
- Мокина О. В. П. А. Каратыгин - актер, драматург, педагог, мемуарист // Каратыгин П. А. Комедии и водевили. СПб.: Чистый лист, 2014. С. 3-47.
- Мокульский С. История западноевропейского театра. Т. 2. Мариво. URL: http://lit-prosv.niv.ru/ lit-prosv/mokulskij-istoriya-teatra-t2/marivo.htm (дата обращения: 31.10.2021).
- Рогов К. Ю. Идея «комедии нравов» в начале XIX века в России: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1992. 16 с.
- Свешников В. Обман, или Всё дело в ширмах. М.: В типографии М. Пономарева, 1834. 102 с.
- Свиньин П. П. Воспоминания на флоте. Часть 1. СПб.: Тип. В. Плавильщикова, 1818. 272 с.
- Свиньин П. П. Опыт живописного путешествия по Северной Америке. СПб.: Тип. Ф. Дрех-слера, 1815. 219 с.
- Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи: 8000 слов и выражений. М.: Оникс: Мир и образование, 2009. 1104 с.
- Стенник Ю. В. Комедия 1800-1820-х годов // История русской драматургии. XVII - первая половина XIX века. Л.: Наука, 1982. С. 221-238.
- Степанов Н. Л. Комедия первой четверти XIX века (от Крылова до Грибоедова) // История русской литературы: в 10 т. / АН СССР. Ин-т лит. (Пушкин. Дом). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941-1956. Т. V. Литература первой половины XIX века. Ч. 1. 1941. С. 293-312.
- Стихотворная комедия, комическая опера, водевиль конца XVIII - начала XIX века: в 2 т. Л.: Сов. писатель (Ленингр. отд-ние), 1990. Т. 2. 768 с.
- Фёдоров Б. М. Наказанная ханжа, или Урок каждому в очередь: Оригинальная комедия в двух действиях и стихах // Фёдоров Б. Сочинения. СПб.: Тип. Имп. театра, 1817. 95 с.
- Янковский М. О. Стихотворная комедия конца XVIII - начала XIX века // Стихотворная комедия конца XVIII - начала XIX века. М.; Л.: Сов. писатель, 1964. C. 27. С. 5-66.