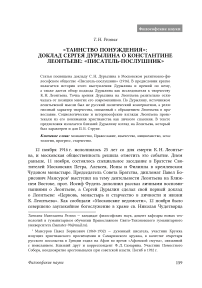«Таинство понуждения»: доклад Сергея Дурылина о Константине Леонтьеве: «Писатель-послушник»
Автор: Резвых Татьяна Николаевна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 3 (74), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена докладу С. Н. Дурылина в Московском религиозно-философском обществе «Писатель-послушник» (1916). В предисловии кратко излагается история этого выступления Дурылина и прений по нему, а также дается обзор подхода Дурылина как исследователя к творчеству К. Н. Леонтьева. Точка зрения Дурылина на Леонтьева разительно отличалась от позиции многих его современников. По Дурылину, источником леонтьевской мысли был не русский политический консерватизм, а религиозный характер творчества, связанный с обращением Леонтьева в православие. Социологические и историософские взгляды Леонтьева проистекали из его понимания христианства как личного спасения. В тексте предисловия излагается близкий Дурылину взгляд на Леонтьева, который был характерен и для П. Б. Струве
Монашество, православие, язычество, ницшеанство, эсхатология, прогресс, старчество
Короткий адрес: https://sciup.org/140190304
IDR: 140190304
Текст научной статьи «Таинство понуждения»: доклад Сергея Дурылина о Константине Леонтьеве: «Писатель-послушник»
в Плотниках (где настоятелем был о. Иосиф) и панихида в Гефсиманском скиту, на могиле; а на следующий день «были отслужены панихиды по К. Н. Леонтьеву в Императорской Московской духовной академии и в домовом храме Красного Креста, отслуженная проф. Московской академии священником П. А. Флоренским»2. 13 ноября на заседании Московского религиозно-философского общества в Мертвом переулке выступали прот. Иосиф Фудель с докладом «К. Леонтьев и Вл. Соловьев»3, Сергей Булгаков с докладом «Победитель-побежденный. Судьба Леонтье-ва»4 и Сергей Дурылин с докладом «Писатель-послушник». Вступительное слово сказал Григорий Рачинский. По свидетельству «Московских ведомостей», «зал был переполнен слушателями»5. Так впервые было публично сказано о Леонтьеве как философе, мыслителе и публицисте.
Эти доклады Дурылина оказались первыми в череде его выступлений и статей о Леонтьеве. В пореволюционной России Дурылин оказался одним из немногих хранителей архива и практически единственным исследователем леонтьевского творчества6. В публикуемом тексте уже сформулирована авторская позиция, в которой прозвучало стремление Дурылина понять Леонтьева как христианина, а не язычника-ницшеанца. По Дурылину, Леонтьев был одним из немногих представителей интеллигенции, который не только испытал настоящее религиозное обращение и стремился переделать свою личную жизнь на христианских началах, но, в противовес Соловьеву, выдвинул идею, что христианство должно переживаться прежде всего как религия личного спасения, а уж затем как религия спасения человечества. Это именно то спасение, которого ищет каждый верующий человек, это вера народа — верующего простолюдина или монаха. В этом переживании Дурылин, когда-то переживший увлечение народничеством, нашел у Леонтьева то, что искал и не находил в себе, — близость к народу.
Воспоминания о том, как готовилось заседание в МРФО и как проходил доклад, отложились в мемуарах Дурылина «Отец Иосиф Фудель (Мои памятки и думы о нем и о том, что было ему близко)», написанных им в начале 1919 г. в Сергиевом Посаде. Выступление, с точки зрения докладчика, явно провалилось: «…хмурился кн. Трубецкой, явно был недоволен Рачинский, молчал Булгаков»7. Дурылин имел в виду, что его понимание Леонтьева контрастировало с позицией коллег по Обществу, поскольку многие участники МРФО (в частности, Е. Н. Трубецкой и С. Н. Булгаков) были последователями Соловьева.
«Филаретовское» христианство Леонтьева Дурылин противопоставлял «розовому» христианству Соловьева, и на этом основании готов был оставить Соловьева за пределами не только Православия, но и вообще каких бы то ни было «церковных стен»: «Я не могу себе представить митрополита Филарета или какого-либо „филаретовца“ из черного или белого духовенства, читающим Соловьева и в особенности сочувствующим „Соловьевскому“; я не могу себе вообразить, что найдет для себя нужного и приемлемо-насущного в Соловьеве и Соловьевском — какой-нибудь современный подвижник, строгий монах, властный епископ, христианин — простец типа какого-нибудь благочестивого книгочия-купца или военного. Но студента университета, либерального городского батюшку, прогрессивного семинариста, мечтающего о реформе церкви, некоего заинтересовавшегося христианством приват-доцента из юридического факультета, какого-нибудь члена не слишком красной партии, слегка усталого от политики, — раз они потянутся за книгой религиозной и христианской, я только и могу представить себе как за каким-либо томом Соловьева или книгой с „Соловьевским“ содержанием»8. Этим перечислением образов потенциальных читателей Соловьева Ду-рылин показывает, что соловьевское творчество может быть предметом лишь «интереса», побудить войти в Церковь оно не может.
В последующих докладах Дурылин противопоставит творчество Леонтьева всей остальной русской религиозно-философской мысли (Достоевскому, Федорову, Флоренскому, Булгакову и Бердяеву). Христианство Соловьева и его последователей Дурылин будет обобщенно трактовать как христианство «созерцателей-мистиков», а христианство Леонтьева — как «христианство грешника». Соответственно Дурылин отождествит русскую религиозную философию с «розовым христианством», связывая с последним не только «гуманизм» и всеобщее спасение, но и метафизику всеединства в целом.
В своей оценке леонтьевского понимания христианства как религии личного спасения и в своей критике идеи Богочеловечества Соловьева Дурылин видел союзником лишь одного отца Иосифа, о чем он подробно говорит в воспоминаниях о нем. Однако доклад Фуделя «К. Леонтьев и Вл. Соловьев» завершался признанием того, что Соловьев в конце жизни отказался от своей теократической утопии, а следовательно, исчезли и разногласия между Леонтьевым и Соловьевым9. Эту мысль подхватил позднее Дурылин, построив на ней свой доклад 1918 г. «Апокалипсис и Россия»10. Здесь эсхатология «Краткой повести об Антихристе» представлена наследницей линии, идущей от преп. Серафима Саровского, от Церкви, от апокалиптического понимания истории представителями радикальных беспоповских сект, т. е. от народного христианства, а также и от Леонтьева. Тем самым Дурылин стремится максимально сблизить видения «Краткой повести» с эсхатологий преп. Серафима Саровского, беспоповства, Леонтьева. Все они предрекают неминуемый и скорый конец света, а не Царство Божие на земле. Но эта версия понимания позднейшего Соловьева вовсе не была новой. Предположение, что в «Краткой повести» Соловьев пережил крах теократической идеи, что здесь лишь пародия на мечту Соловьева, было высказано еще в 1911 г. Е. Н. Трубецким11 и В. Ф. Эрном12. Дурылин лишь довел трактовку поздней историософии Соловьева как эсхатологической (а не апокалиптической) до полного завершения.
Трубецкой же никак не мог «хмуриться» на дурылинском докладе, ибо он на нем не присутствовал. Об этом свидетельствует письмо
М. К. Морозовой к Трубецкому: «Милый, дорогой, как я жалею, что ты вчера не был. Было очень интересно! Я волновалась даже особенным волнением, которое испытываю, когда дотрагиваются до моих сокровенных тем! Вообще с Леонтьевым связано очень, очень глубокое мое, то, до чего ты никогда со мной не касаешься, ты не любишь и не считаешь важным это в общем! Надо поговорить подробно об этом <…> Струве сказал, между прочим, что Леонтьев первый русский мыслитель по силе мысли, он больше Соловьева. Что Соловьев и Достоевский дети по сравнению с Леонтьевым — это говорили почти все. Я согласна, что Леонтьев вообще „реальнее“ Соловьева и других, и это очень важно»13. Хотя цитируемое письмо не датировано, оно относится к заседанию 11 ноября 1916 г., где отец Иосиф Фудель поднял тему «Леонтьев и Соловьев», а не к заседанию 4 ноября 1912 г., где в докладе Бориса Грифцова «Религиозная судьба Константина Леонтьева»14 имя Соловьева упоминается всего один раз.
Слова Морозовой свидетельствуют и о том, что общая атмосфера на заседании была явно не так далека от понимания значимости Леонтьева, как это представлялось Дурылину, и о том, что он был не одинок в усмотрении в леонтьевском понимании христианства как религии личного спасения большей правды, чем в соловьевском. В письме Морозовой упоминается о факте высокой оценки творчества Леонтьева «правым либералом» П. Б. Струве, который познакомился с творчеством Леонтьева еще в молодости и, став редактором «Русской мысли», «всячески подхватывал все новые материалы о Леонтьеве и всемерно содействовал их опу-бликованию»15. Как ни парадоксально, но именно Струве в своей оценке Леонтьева оказался ближе всего к Дурылину, обращая внимание не только на мистическое понимание государства у Леонтьева, но и на характер его религиозности. Именно об этом говорится в статье Струве 1926 г.: «… личное спасение неотъемлемо от страха Божия — и это Леонтьев понял и выразил с такой силой, с какой это не было доступно и не могло быть доступно ни одному русскому писателю (ближе всего в религиозном отношении к Леонтьеву из русских писателей Гоголь, которого, впрочем, сам
Леонтьев, кажется, не понимал). Ибо у Леонтьева было неразрывное с подлинным христианством чувство греха и греховности»16. Неудивительно, что после заседания МРФО Струве именно отцу Иосифу, а не, скажем, Булгакову предложил напечатать свой доклад в «Русской мысли».
Доклад, дошедший до нас лишь в черновой рукописи, возможно неполной, во многом пересекается с текстом вышеназванного сообщения в Братстве Святителей Московских, от которого и вовсе сохранились лишь фрагменты17. Он проливает свет не только на формирование исследовательской позиции Дурылина по творчеству Леонтьева, но и на русские споры начала века о том, что такое христианство.
Текст публикуется по: РГАЛИ. Оп. 1. Ед. хр. 20. В архивном деле рукопись ошибочно датирована началом 20-х гг. Рукопись представляет собой черновой автограф, содержащий многочисленную правку: зачеркивания, вставки карандашом, правильное расположение которых не всегда возможно установить. Последние страницы рукописи представляют собой, скорее, наброски, отрывки. На некоторых страницах оставлены места для цитат, которые, как видно по другим дурылинским манускриптам о Леонтьеве, заранее записывались на отдельных фрагментах и нумеровались с целью последующей вставки (с целью не переписывать одну и ту же цитату несколько раз), но сами цитаты отсутствуют. Из-за чернильных отпечатков в некоторых местах текст почти неразборчив.
Сергей Дурылин
Писатель-послушник
«Увы, все сочинения Л<еонтье>ва похожи на страстное письмо, с неверно написанным на конверте адресом»,18 — сказал однажды человек, которого сам Л<еонтьев> звал, перед смертью, к себе, знаменательными словами: «Есть вещи, к<отор>ые я только вам могу передать»19 — В. В. Розанов. Л<еонтье>в <—> писатель без читателя. Он не оказался «своим» не у кого: ни у славянофилов, ни у западников, ни у монархистов, ни у интеллигентов. Писатель без места в литературе, в обществе, в жизни. (Исполнилось двадцать пять лет со дня кончины Л<еонтье>ва, и больше полустолетия со дня появления первых его произведений.) Если судить по следам, оставленным Л<еонтье>вым в русской литературе, критике, публицистике, русском сознании, в обществе, — то, окажется, Л<еонтьев> как будто и не жил вовсе20. Поистине, «письмо с неверно написанным адресом». Но и все, что говорится и пишется обычно о Л<еон-тьеве>, тоже пишется по «неверно написанному адресу».
Приведу один пример.
Многократно упоминает Л<еонтьев>, что главной своей заслугой считал свою теорию или гипотезу всемирно-исторического развития, свою триаду: первоначальное однообразие и простота жизни: государ-ств<енной>, религиозной, эстетич<еской>, социал<ьной>, всяческая простота, соответств<ует> жизни дикаря, дитяти, жизни живого ор-ганич<еского> зародыша — цветущая сложность мира — тоже всяческая — э<стетическая>, рел<игиозная> и т. д., соотв<етствует> возмужалости, цветению всех сил жизни — и вторичное, уже окончательное упрощение, нивелировка под всеобщее однообразие, всеобщее равенство в скуке, и новое равенство, соответствует однообразию в разложении трупа ч<елове>ка и трупа собаки, соотв<етствует> конечной простоте небытия. «Определив фазу XIX ст. как фазу „предсмертного смешения“21 и прогресса, он захотел ей сказать, как некогда Иисус Навин о дне сражения: стой, солнце, и остановись, луна»22. Конечно, он знал, что ничего от его крика не остановится, разве что не надолго, слабо», но «люди умирают» и надо это умирание остановить23.
Это устарение человечества Л<еонтье>в видел в безнадежной скорости и гнетущем американизме современного техническо-демократического прогресса, современного атеистического уравнения всех под один тип; атеистич<еского> человекопоклонника и технолюбца, поклоняющегося слащаво-пошлому идолу прогресса, известному в Европе, но сфабрикованному в Америке. «О, подлое однообразие! О, треклятый прогресс! — в гневе восклицает Л<еонтьев> — О, тучная, усыренная кровью, но живописная гора всем<ирной> истории! Ты мучаешься новыми родами и из страдальч<еских> недр твоих выползает мышь! Рождается самодовол<ьная> карр<икатура> на прежн<их> людей: средний рацио-нал<ьный> европеец, в своей смешной одежде, — неизобразимый даже в идеал<ьном> зеркале искусства; с умом мелким и самообольщ<енным>, со своей ползучей по праху земн<ому>, практич<еской> благонамеренностью! Нет! никогда еще в истории не видал никто такого уродл<иво-го> сочетания умств<енной> гордости перед Богом и нравств<енного> смирения перед идеалом однородного серого рабочего, только рабочего и безбожно-бесстрастного всечеловечества! Возможно ли любить такое ч<еловечест>во? Не следует ли ненавидеть не самих людей заблудших, а такое будущее их всеми силами даже и хр<истианск>ой души!»24
Справедливо или нет думал так Л<еонтьев> (нам до этого сейчас нет дела); верно одно: так он думал и, думая так, не хотел с этим смириться, а хотел воевать, хотя и без тени надежды на победу.
Он думал, хватая, как призванный к отравившемуся, первое подходящее средство, что «остановить» ложное светило прогресса можно суровой государств<енной> властью — «подморозить Россию»25, если нельзя уж весь мир, то хоть милую ему Россию, — и «подморозить» от разл<о-жения> множеством конкретных средств: политических и социальных, чем бы нибудь, лишь бы остановить, лишь бы живому организму не дать стать трупом…
А поняли Л<еонтье>ва как самодовлеющего теоретика монархического государства, самодовлеющего поклонника земс<ких> начальников и дворянского публициста. Против такого Леонтьева писали, спорили, полемизировали как будто он был Катков или кн. Мещерский. Ни слова критического и умного о его теории смешения и прогресса и о его триаде и куча слов и статей об его случайных средствах, к которым тянулась его рука, чтобы спасти от разложения Россию. Поистине, отвечали ему. «Но, поверьте нам, <2 сл. нрзб.> упрощения >».
И вот 25 лет, как его нет, — его юбилей, юбилей нашего незнания о нем, нашего безнадежного и упорного непонимания его — печальный и укоризненный юбилей! Лучшее, что можем сделать мы, это на 25-ем году смерти Л<еонтье>ва начать первый год его настоящего чтения, изучения и вникания в него.
То слово, которое дано мне здесь, я передаю самому Леонтьеву: пусть он сам говорит за себя, слово принадлежит ему, а не мне, ибо по истине до сих пор слово нигде не принадлежало ему: ни на каких собраниях и сборищах. И слово будет принадлежать тому Л<еонтье>ву, которого менее всего знают и кото<ро>го более всего надлежало бы знать. Если для интеллигенции, для рус<ской> литературы, для рус<ской> публицистики, Л<еонтьев> неизменно оказывался письмом с неверно написанным адресом, которое не принимали и возвращали назад почтальону, то было место, где это письмо приняли, где это письмо прочли и сохранили, было место, где безместный Л<еонтьев> чувствовал себя на месте и так прочно чувствовал на месте, что звал и других в это место, куда все письма доходят, лишь бы они были верны подлиннику — человеческой душе, страдающей и обремененной26 и ищущей оправдания своего. Это место — Православная Церковь, конкретнее — это место: православный монастырь, еще конкретнее — это Афон, это Оптина пустынь. Поразительно, в самом деле, сочинения Л<еонтье>ва не читали, томы их лежали на полках, а вот небольшое его сочинения «От<ец> К<лимент> З<едергольм>» выдержало до шести изданий и читается всей простой верующей Россией27. Оно оказалось письмо с адресом верным: его раздавал бесплатно посетителям благо-слов<енный> старец Амвросий Оптинский, его раздают доселе оптинские старцы в множестве экземпляров, и издает его православный монастырь.
Итак, пусть говорит теперь послушник-писатель К. Леонтьев, и говорит о своем религиозном пути — от К. Н. Л<еонтье>ва к монаху Клименту. А мы прислушаемся к его словам — и, слушая, будем знать, что это, вероятно, тó самое, что сказал бы о себе сам приснопамятный инок Климент, если бы спросили мы его: как пришел он к месту, где по адресу оказалось его письмо. Пусть же его слова окажутся по адресу нам.
* * *
Леонтьев родился с душою, про которую можно перевернуть образно тертуллиановы слова: с душою не христианскою, а с душою-язычницей. Только тут справедливо бесконечно надоевшее сравнение Л<еон-тье>ва с Ничше: как тот, Л<еонтьев> родился с душой-язычницей. Эта язычница душа сквозит во множестве фактов жизни и сознания Л<еон-тье>ва: она то беспредельно сурова: тогда в упор против Вифлеемской песни — «С<лава> в вышних Богу, на земле мир»28, она отвечает: «не надо мира», нужна Imperium Romanum, а если и нужен мир, то не благоволи-тельный Христов мир, а железный Pax Romana29, это — она, душа язычница, заставляет писать юному другу, едущему в Адрианополь: «Чтобы вполне постичь поэзию Адрианополя, послушайте моих советов: 1) не откладывая, заведите себе любовницу простенькую болгарку и гречанку; 2) ходите почаще в турецкие бани; 3) постарайтесь добыть турчанку; 4) устройте на лужайке борьбу молодых турок»30. Это она, душа язычница, заставляет его, уже больного старика, писать старому другу про себя и молодых своих друзей, тянущихся к нему, как к дух<овно>ому вождю: <…>31
Эта она, душа язычница, заставляет его быть — как в насмешку называли его — каким-то «турецким игуменом»32 — который многоженца-турку с его гаремом и со всей его яркой и чувственной эстетикой Востока предпочитает добродетельному и моральному европейскому буржуа с идеями равенства в голове и в безобразном партикулярном пиджаке на плечах… Это она, душа язычница, сквозит в языческом и сладострастном пафосе его изумительной «Исповеди мужа», это она, душа язычница, соединила его, утонченного диалектика и глубокого мыслителя с его будущей женой, простой необразованной гречанкой, но необыкновенной красоты33, это она, душа язычница, сквозит в его мысли, в его воле, в поклонении его то грозному языческому кумиру вседержавного железного Рима, то сладостному и чувственному облику мусульм<анского> Востока, это она диктовала ему его знаменитые «ни-чшеанские» слова: «Для того, кто не считает блаженство и абсолютную правду на земле назначением человечества, нет ничего ужасного в мысли, что миллионы русских людей должны были пережить целые века под давлением трех атмосфер — чиновничьей, помещичьей и церковной, для того, чтобы Пушкин мог написать Онегина и Годунова, чтобы построили Кремль и его соборы, чтобы Суворов и Кутузов могли одержать свои национальные победы»34.
Вся жизнь и мысль Л<еонтье>ва до Афона — жизнь сознательного язычника: как будто вода крещения не принимала его в себя, как будто он — запоздалый, затерявшийся в мiре остаточный эллин. «С Леонтьевым чувствовалось, что вступаешь во что-то дикое и царственное, где или голову положить или царский венец взять»35, признается знавший его человек. «Такого воскрешения афинизма, шумных агора афинян, страстей борьбы партий и чудного эллинского „на ты“ к богам и к людям — этого я никогда еще не видел ни у кого, как у Леонтьева», признается близко знавший его человек. «Все Филельфо и Петрарки проваливаются, как поддельные куклы, в попытках подражать грекам, сравнительно с этим калужским помещиком, который не хотел никому подражать, но был в точности как бы вернувшимся с азиатских берегов Алкивиадом, которого не догнали стрелы врагов, когда он выбежал из зажженного дома возлюбленной»36.
Именно эта необычность, иномерность Л<еонтье>ва, какая-то дохристианская душа (языческое все время беру не как противо, а как до-хри-стианское), до-христианская плоть в нем, — именно это отталкивало от него, иногда с омерзением, таких людей, как моральный Страхов37 или С. Рачинский38: человек без христианского запаха, со смелостью и жестокостью, с железной логикой своего рода легионера в мысли, с каким-то алкивиадизмом в крови, в осязании, во вкусе. Это не язычество украдкой, каким бывает нехристианство наших дней, язычество только как нарушение хр<истинаских> заповедей, без всякой онтологии, без всякого языческого бытия и ядра, это язычество по крови, по духу, то Рим, то Греция, то Восток — на все живое, все живущее, все в одном человеке, к<отор>ый и не жмурит глаза, и не боится, оттого, что все это в нем, и что все это — он. Нет, так и хорошо, как и хочу. Так и будет.
И вот — нé было так, и захотел иного, и иного стал искать, к иному пошел. Почему? Как это случилось?
Отчего душа язычница захотела стать душой христианской? Отчего и этот язычник, Алкивиад, с логикой железного легионера, отчего и этот, — столь казалось бы, сильный, самодержавный и прекрасный в своем язычестве, отчего и он склонился перед православным монастырем, и так склонился, что вошел в него и стал единым из обитающих в нем? Вопрос о Леонтьеве есть вопрос о перерождении души, о вторичном рождении — вопрос вечный, центральный в христианстве. Вопрос Никодима. Истинно говорю тебе: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие»39.
Никодим говорит Ему: как может ч<елове>к родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?
Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше.
Есть люди — по строению своей души — предрасположенные к х<ристианст>ву: по природе кроткие, по природе не легионеры римские, не Алкивиады. Каждая кровинка в них поет, от рождения: «Слава в Вышних Богу, на земле мир». Как прекрасен для них христианский путь! И есть иные люди — Леонтьевы: каждая кровинка их как бы маленький центр отталкивания от христианства, а все вместе — тело и душа — язычники и христопротивленцы: нет, не агрессивные, не враги, не рационалистические мелкие бунтари, а инотелесные, инодушевные, чем христианство, для которых вопрос так и ставится, как у Никодима: «Неужели мне в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?»40 — и предполагается, что это невозможно. Вопрос об Алкивиаде, который уже не может быть Алкивиадом, жаждет разбить себя, как Алкивиада, потому что уже нельзя быть Алкивиадом: земля не держит, — и стать Никодимом, и услышать это от самой Истины: это страшное и невозможное: родись вновь, — и не понимать, бунтовать против этого: «неужели вновь войти мне в утробу матери?» — и потом все-таки войти в эту утробу, — в утробу Матери-Церкви, и родиться? Вот вопрос о Леонтьеве, вот центр, к которому стягиваются едва ли не все нити наших исканий, наших неудач, наших спасений в христианстве — и уж к к<отор>ому, в л<еонтье>вском случае, стягивается весь Л<еонтье>в: человек и писатель.
Алкивиад стал перед фактом, которого не преодолели, не осмыслили, не отвратили ни Эллада, ни Рим, ни до-христинаский Восток, перед гибелью и смертью, и, став перед ним лицом к лицу, затрепетав каждой своей языческой кровинкой, Алкивиад ощутил с неумолимой ясностью, что если этот факт преодолен им — то не помощью тех сил, кои скрыты в милых его крови и душе Элладе, Риме и Востоке, а вопреки и в отрицании этих сил, в меру торжества над ними силы, им противоположной, — и Алкивиад не мог уже оставаться Алкивиадом: он должен был стать христианином, ибо воскрес только Христос, Победитель смерти, а не какой-либо другой бог. Невозможный факт рождения второго совершился — в муках смерти, самых реальных муках самой реальной смерти от холеры. «В лето 1871 г. — повествует Леонтьев в интимнейшем и почти предсмертном письме к В. В. Розанову — консулом в Салониках, лежа на животе в страхе неожиданной смерти от сильнейшего приступа холеры, я смотрел на образ Б<ожи-ей> М<атери>, только что привезенной монахом с Афона, я думал в эту минуту даже не о спасении души, ибо вера в Личного Бога давно далась мне гораздо легче, чем вера в мое собств<енное> бессмертие, я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о телесной смерти, и, будучи уже заранее подготовлен целым рядом других психологич<еских> превращений, я вдруг, в одну минуту, поверил в существование и могущество этой Божией Матери, поверил так ощутительно и твердо, как если бы видел перед собою живую знакомую, действ<ительную> женщину, очень добрую и очень могуще-ств<енную>, и воскликнул: „Матерь Божия! Рано! Рано умирать мне!.. Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в высшей степени развратную, утонченно-грешную жизнь! Подыми меня с этого одра смерти, я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого настоящего православного, верующего и в среду, и в пятницу, и в чудеса, и даже постригусь в монахи“. Через 2 часа я был здоров, все прошло еще прежде, чем явился доктор; через три дня я был на Афоне, постригаться немедленно меня отговорили старцы, но православным я стал очень скоро под их руководством… К русской и эстетической любви своей к Церкви надо прибавить еще то, чего недоставало для исповедания даже „середы и пятницы“: страха греха, страха Божия, страха духовного. Для достижения этого страха дух<ов-ного> — нужно было моей гордости пережить всего только 2 ч. физического и обидного ужаса. Я смирился… Физич<еский> страх прошел, а духовный остался. И с тех пор я от веры и страха Господня отказаться уже не могу, если бы даже и хотел»41.
Вся дальнейшая жизнь Л<еонтье>ва есть сплошное понуждение себя ко Христу42, к Церкви, и в грозной силе сбывалось над ним речение Х<ри-сто>во: «Царствие Небесное нудится и нýждницы восхищают е»43. С беспримерной искренностью и прямотой присоединился он к этим «нýжд-ницам» Царствия и дал своей жизнью незабываемый, вечно памятный и поучительный образ этого труда собственного воцерковления, этой изо дня в день текущей, будничной и тягчайшей работы воцерковить, во Христа облечь свою мысль, свою волю, свою жизнь, — когда все, казалось бы, и мысли, и воля, и жизнь, и каждая кровинка противится этому и не принимает этого труда. Он живет на Афоне, под руководством великих старцев Иеронима и Макария44, и просит их постричь его в монашество. Нет благословения45. Полгода проводит он простым послушником в Угрешском монастыре46. Семнадцать лет состоит под старческим руководством оптинского старца Амвросия. Принимает под конец жизни тайный постриг. Таковы внешние факты. Каждый поступок его, каждое слово свое — художника и публициста — проверяет он словом и волей старца. Вот мелкая записочка его к Оптинским монахам, писанная карандашом, наспех. Это значит, он не успел спросить совета по делу у старца, а сделать без совета не хочет, и он просит спросить совета монаха, идущего к старцу. Тут все в этих письмах и записках: и житейское дело, и совет о старом долге, к<отор>ый нужно заплатить, и вопрос о литер<атур-ном> произв<едении>, о романе или статье, пишемых с благосл<овения> старца, и дело к министру, и просьба за близкого ч<елове>ка. Это — будни христиан<ской> жизни, это — минуты и часы понуждения о Христе, это все — мелочи, обыденные и ежедневные, — но в этом-то и виден ч<е-лове>к: раз здесь, в мелочах, образующих самый скелет нашей жизни, «понуждение» к христианскому строю, к послушанию, — то и везде так! И как счастлив он, этот ч<елове>к, с «душой-язычницей», если — понуждением — отвоевал час мира для души (день блага для себя и других), день христианского сосредоточения в себе, в надежде отвоевать вечную посмертную радость о Христе.
«Нужно дожить до страха Божия, до страха просто перед учением Церкви, до простой боязни согрешить… Я слыхал образованных людей, к<отор>ые смеются над этим чувством (его во времена умной старины великие герои не стыдились!) — смеются и говорят: „Что это я буду как дитя: Ах! Боженька за это камушком побьет!“ Да, побьет! И счастлив тот, кого побьет! Я счастливый, а Фет — несчастный в своем атеистическом ослеплении! Или есть Бог личный, Бог живой, или нет Его! А если есть… так куда же тягаться силами с Ним и перед лицом Его помнить о каком-то достоинстве человеческом!»47.
Он пишет из О<птиной> п<устыни> в конце 80-х: «Если, наконец, (подчеркивает) старее я стал предпочитать мораль — поэзии, то этим я обязан, право, не годам — не старости и болезням я обязан этим, но Афону, а потом Оптиной. Из ч<елове>ка с широко развитым воображением только поэзия религии может вытравить поэзию изящной безнравственности»48. И он знает про свою перемену, про это второе страшное рождение, что оно дано всякому, кто его захочет, что всякий призванный нудить себя — и восхищает Царствие.
«Нужно только искать, — пишет он, — нужно идти с твердою решительностью подчинить, (хоть в общ<их> основах), нашу строптивую, со-вр<еменную> волю великим преданиям, нужно отрясти прах прогресса с подошв своих, и принимать, хотя бы и насильно, сначала для сердца, по одному изволению, уже все, что нам скажут49.
Я хочу верить и буду, Боже, помоги моему маловерию.
По милости Твоей научи меня страха Твоего страшиться, а не стыдиться его как безсмысл<енно> стыдятся именно этого рода страха столь многие люди.
Все, все мы, если присмотреться внимательно, живем и дышим ежедневно пред страхом ч<еловечес>ким: под страхом корыстн<ого> расчета, под страхом самолюбия, под стр<ахом> безденежья, под страхом того или другого тонкого унижения: под боязнью наказания, нужды, болезни, скорби; и находим, что все это „ничего“, что это только „здравый смысл“ и „европейскому“ достоинству нашему не противоречит ничуть. А страх высший, мистический, страх греха, боязнь уклониться от церк<овного> учения или не дорасти как след<ует> до него, это — боязнь низкая, это страх грубый, мужицкий страх или женский малодушный что ли? Умно!»50
Это понуждение себя к Церкви, столь непонятное современности, есть единственный общий путь к Ней и к Христу, — путь, открытый для всякого. Этим-то тяжким путем пришел Л<еонтье>в к Церкви: вот откуда сила этих его воззваний, и вот откуда его гнев против врагов Церкви.
Отрывок из «Н<аши> нов<ые> хр<истиане>».
Даже любовь его — столь преданная и глубокая — к старцу о. Амвросию — далась ему не как многим сотням тысяч русских людей — благодатно и свободно, а с тем же святым понуждением к любви и открытию помыслов.
Все оставляли Л<еонтье>ва: он уверился в полном неуспехе своей лит<ературной> деят<ельности>, он понял, что его влияние, и на общество, и на правительство, ничтожно, он знал, что восходящее светило всеобщего американо-уравнительного прогресса, несущее гибель красоте и богопочитанию — не остановишь никакими словами, он знал, что жизнь уходит в нестерпимом мыслительном одиночестве, что впереди крушение политических и всяческих надежд. — Ничто было это все! перед стремящимся миром его собственного мира! перед победой Церкви в нем, перед ясностью для него этой Единственной Непобедимости в мире — Христа и Церкви.
Пишет в 1877 г. в разгар войны:51
Мудрая десница старца хранит его: он лучше знает, что делать его усталой руке. — И христианское понуждение себя послушанию старцу во вне выявляется в том, что послушник Леонтьев должен питать и хранить в себе дорогого нам писателя Л<еонтьев>а. <…>52 России, чудом любви и духовной мудрости ведает жизнь и мысль своего верного послушника, несмотря на видимую невозможность знать и постигать смиреннейшего послушника с нуждением его.
Как будто все осталось, все ненужно: и Рим, и Эллада, и Восток еще тут где-то в душе, — но воистину —
Душа хотела как Мария
К ногам Христа навек прильнуть53.
«Никто рукой не махнет, если Богу не угодно, и никто ничего не придумает для меня, если Богу не угодно»54.
Он болел тяжко, безнадежно.
Эстетик болел некрасиво, мучительно, больно, неизлечимо. Но и это он принимает в тишине и покорности как его благой закон.
Были годы, когда он забывал о своей жене, к<отор>ую полюбил за красоту и которую менял на других, влекших его красотой. И вот она стара, больна душой, нечистоплотна. — та, к<отор>ую он и любил — но за молодость, здоровье, красоту — и какой же долгий понудительно-христианский путь должен был пройти он, чтобы написать тому же приятелю, к<отор>ого учил искать красивых любовниц на Востоке:55
Но тут же и объясняет, почему он может ныне так писать:56
А другого, юношу, наставляет, что «брак есть монашество вдвоем»57.
И до мелочей доходит это глубокое — и уже благодатное, под благодатным руководством старца, — понуждение себя к добру и миру. Вот он вспомнил тех людей, которым когда-то, в ранней молодости, беспечно должал, и он отыскивает их повсюду, от Янины до Москвы, чтобы из своих скудных средств уплатить долги, хотя по-прежнему кипит его мысль, остро его политич<еское> чутье, далеки его взоры.
Он не верит в силу чел<овеческо>го разума, в его способность руководить человеком — даже при явных следах голоса совести. «Есть множество случаев в жизни х<ристиани>на, когда и страсти молчат, и намерения добрые, а между тем не можешь решить, к<оторо>е из двух хороших дел перед судом Всевышнего сочтется за лучшее. Это вздор, что совесть наша сама может решить. Совесть глубоко и неразрывно связана с самомнением, тонкою моралью и гордостью, природным вкусом»58. «Идеализм сердечный, один без помощи „страха Божия“ и веры в Таинство, т. е. без… мистики х<ристианск>ой не может налагать узду на поведение и после охлаждения плотс<кой> страсти. Знаю это по горьк<ому> опыту»59. Во всем, во всем, от мелочей его обыденной жизни до факта всемирно-историч<еского> значения видится ему некий высокий смысл, некое Богонаучение всего мира и каждого человека. Вся всемирная история — послушничество, к<отор>ое можно принять и легко можно и отвергнуть, но к<отор>ое налагается Богом: и жизнь каждого ч<елове>ка тоже послушничество. Церковь, монастырь, старец лишь блаженные учителя этого послушничества. Можно отказаться, но нельзя его от себя снять. Страшно и сладко чувствовать на себе руку Божию! А он чувствует ее на себе — на всем: на неудачах в жизни, на неудачах своей писательской судьбы, на крушении политич<еских> и историч<еских> надежд. «Для Бога всякая душа важна, „и Бог всем хощет спастися и в разум истины прийти“ — говорит Церковь; это так; но почему это на жизни одного человека весьма видна нить, за к<отор>ую Г<оспо>дь выводит его из лабиринта его собств<енных> страстей и умственных блужданий — не знаю! Да и кто знает это? И не нужно вовсе нам все знать и все понимать! Я знаю только, что моя нить Божия смотрения очень ясна; …до малейших из-гибов!»60 И он следит за движением этой нити, и справляется у старца, верно ли понял он новый ее изгиб. Он нашел в своей душе силу для молитвы. «Монахи приучили меня в самом деле часто молиться, и я каждый день, и не по разу, а чаще молюсь»61.
Он сурово останавливает интимнейшего своего корреспондента, В. В. Р.: <…>
Душа вся тяготеет к Богу, а мысль — упорная, глубокая и острорежущая, по-прежнему бьется около больных ему мыслительных граней: Будущее. Культура. Восток. Россия. Запад. Православие, — и он, истинный сын Церкви, церковник в мысли и воле, как далек уж он теперь и от самодовлеющего идеала государства и госуд<арственной> силы, и от национализма: как беспощадно изострила его ум освободившая и просветлившая его сердце церковность. Он пишет ч<елове>ку, разделявшему идеал всеобщего обрусения, противопоставляя языческий национ<альный> идеал своему леонтьевскому, церковному:62
Будет ли в Церкви Россия, не изменит ли Христу, не променяет ли она взыскуемый небесный град на благоустроенный американский город, какой-нибудь новый Чикаго внешней культуры: вот его тревога, его скорбь, его вопрос. Если променяет, то погибнет: без Христа все погибнет, все сотрется в жалком и мутном смешении последних времен.
Он мучительно, страстно думает о будущем России, но все эти думы связаны не с надеждой на национ<альную> силу России, не на славянскую культурную самобытность, не на юность рус<ской> нации, не на государственную мощь русскую, — вся надежда на Православие и Церковь, и остается у него вера не в Россию, не во всякую Россию, а в Церковную Россию, в Церковь Божию, живущую на русской земле.
А собственное его древо жизни — его жизнь — близится к концу. Чувство конца охватывает Леонтьева: конца истории, так же, как собственного конца. И великая христианская покорность одухотворяет и просветляет его. Он не ропщет на мучит<ельный> недуг, на одиночество, молит лишь о «христианской кончине живота». О. Амвросий указывает ему переселиться в Сергиев Посад, «покинуть малую обитель».
Переселение совершилось. Он один, вдали от старца, вдали от семьи63.
Но еще глубже его послушание, еще внутреннее и глубиннее его покорность. За месяц до кончины самого Леонтьева уходит к Богу старец
Амвросий. Нет отчаяния, нет ропота, чистое устремление: «да будет воля Твоя».
И самому на себя ему странно: как изменился он, точно, действительно, в реальности вошел в утробу матери своей — и снова родился64.
И вот приходит смерть. Он умирает один, в номере монастырской гостиницы в Посаде, и смерть его вскрывает великую тайну — тайну его душевного и духовного устроения: оказывается, умер не К. Н. Л., а инок Климент, тайно принявший постриг в Предтечевом скиту О<птиной> п<устыни> 23 авг. 1891 г. Это тайное пострижение было поистине предсмертным пострижением, и смысл его тот же, который изъяснял когда-то сам К. Н.
«Ведь он жить по-монашески не будет. Обетное самоотвержение уже исполнить на земле не в силах. Это бессмысленный старый обычай, — какая-то формальность, самообольщение» — так говорят обычно о предсм<ерт-ном> пострижении. И Л<еонтьев> на это возражает: «Умирающие постригаются не для того, чтобы жить на земле по-монашески, а для того, чтобы чистыми предстать пред страшным судилищем Господним. Пострижением уничтожаются и омываются все прежние грехи…
— Что такое пострижение — Таинство или обряд?
— Оно относится к Таинству покаяния и есть высшая его степень, ответил он»65.
Тот же великий аф<онский> старец когда-то, в дни обращения Л<е-онтье>ва, взывал к нему неустанно: «Понудьте себя — только понуждающие себя восхищают Ц<арств>ие Н<ебесн>ое»66.
Это великое таинство понуждения себя совершал Л<еонтье>в со дня своего обращения. Он завершил его высшей степенью покаяния и того же понуждения о Христе: постригом иноческим. Ему же, этому таинству понуждения о Христе, всем доступному и открытому и всех приводящему ко Христу учит нас ныне поминаемый писатель-послушник. Вечный покой ему — и вечная память — приснопам<ятному> иноку Клименту. Думается мне, что нет более подлинного Л<еонтье>ва, чем этот Л<е-онтье>в, ибо нет более подлинно ценной мысли, нет большей истины, и красоты, и блага, чем те, коим нераздельно послужил постригом своим приснопамятный раб Божий, инок Климент. Вечная ему память и вечный о Боге покой.