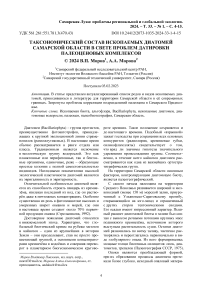Таксономический состав ископаемых диатомей Самарской области в свете проблем датировки палеоценовых комплексов
Автор: Моров В.П., Морова А.А.
Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl
Рубрика: Оригинальные статьи
Статья в выпуске: 1 т.33, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен актуализированный список родов и видов ископаемых диатомей, приводившихся в литературе для территории Самарской области в её современных границах. Затронуты проблемы корреляции подразделений палеоцена в Самарском Предволжье.
Ископаемая биота, альгофлора, bacillariophyta, ископаемые диатомеи, диатомовые водоросли, палеоцен, палеобиогеография, самарская область
Короткий адрес: https://sciup.org/148329381
IDR: 148329381 | УДК: 561.261:551.781.3(470.43) | DOI: 10.24412/2073-1035-2024-33-1-4-15
Текст научной статьи Таксономический состав ископаемых диатомей Самарской области в свете проблем датировки палеоценовых комплексов
Диатомеи (Bacillariophyta) – группа протистов, преимущественно фотоавтотрофов, принадлежащих к крупной эволюционной линии страме-нопилов (разножгутиковых). В настоящее время обычно рассматривается в ранге отдела или класса. Традиционным является включение в экологическую группу водорослей. Это как планктонные или перифитонные, так и бентосные организмы, одиночные, реже – образующие простые колонии с полной самостоятельностью индивидов. Наглядными показателями высокой экологической пластичности диатомей являются их эвригалинность и эвритермность.1
Отличительной особенностью диатомей является их способность строить панцирь из кремнезёма, извлекая последний из вод, где он растворён даже в ничтожных концентрациях. Особенно существенна их роль в фитопланктоне высоких и умеренных широт океанов и морей, где они в настоящее время создают около 70% первичной продукции океана (Стрельникова, 1992).
Достоверное появление диатомей относится к нижнемеловой эпохе. Характерно, что глобальный биотический кризис на рубеже мезозоя и кайнозоя – один из крупнейших в истории Земли – они преодолевают, став не просто процветающей группой, а основными концентраторами кремнезёма в водоёмах и совершив переворот в планетарном биогеохимическом кругово-
роте кремния. Такое положение сохраняется и до настоящего времени. Подобный «взрывной» захват господства при сохранении всех основных конкурентов (радиолярии, кремниевые губки, силикофлагелляты) свидетельствует о том, что вряд ли значимы гипотезы значительного удревнения происхождения группы. Соответственно, в течение всего кайнозоя диатомеи рассматриваются как одна из важнейших ортостра-тиграфических групп.
На территории Самарской области основным фактором, контролирующим диатомовую биоту, является палеогеографический.
С самого начала палеоцена на территории Среднего Поволжья развивается широкий и мелководный (менее 150 м) морской залив, приуроченный к Ульяновско-Саратовскому прогибу, открывающийся на юго-запад и ограниченный с других сторон тектоническими сводами. Его осадки имеют ингрессивный характер. Пышный расцвет диатомовой биоты в заливе был связан с выносом речными потоками крупных масс подвижного кремнезёма, источником которого выступала растительность суши. Остатки диатомей разносились по всему заливу, частично растворялись и переотлагались первоначально в виде глобулярного опала. Из него формировались мощные толщи биогенных силицитов: опок, диатомитов, трепелов (Палеогеография СССР, 1975).
Опоки являются преобладающей формой, при их образовании процессы диагенеза протекали более глубоко, исходный опаловый матери- ал претерпел полное превращение в опал-кристобалит, попутно генерировалось небольшое количество примесных цеолитов, преимущественно анальцима и филлипсита. В формировании опок принимал заметное участие и глинистый материал. Диатомиты и трепелы – более рыхлые породы, исходный опаловый материал подвергся в них меньшей трансформации, причём в трепелах преобладает глобулярный опал, а в диатомитах – остатки панцирей. Стоит заострить внимание на том, что в литературе по Поволжью различия между обеими рыхлыми породами зачастую не делается. Тем не менее, одна из причин недостаточной изученности кремниевой и другой микробиоты в палеогеновых разрезах – плохая сохранность или полная деградация остатков. Лишь на немногих изолированных интервалах здесь возможно применение микрофоссилий в биостратиграфии.
В палеоцене Поволжья отложению рыхлых кремниевых пород всегда предшествует образование опок, и диатомиты/трепелы обычно заключены в опоках в виде линз или гнёзд. Ближе к середине палеоцена роль кремниевых пород в разрезах значительно снижается, но в самом конце эпохи несколько возрастает в результате менее масштабной камышинской трансгрессии.
С начала эоцена ещё сохранялся отмирающий Ульяновский залив, в котором отлагались пески и реже глинистые илы. К концу среднего эоцена на его месте установился континентальный режим (Палеогеография СССР, 1975).
К началу XXI столетия сложились устойчивые представления о возрасте палеоценовых толщ Поволжья. Вследствие недостаточного палеонтологического обоснования на большинстве интервалов приоритет был отдан литостратиграфии. Основным недостатком подобных схем является их диахронность как результат смещения границ бассейнов. С этого времени ведётся усиленная работа по созданию корреляционных схем на основе биостратонов с использованием различных микропалеонтологических шкал. В 2014 г. была утверждена новая стратиграфическая схема на этой основе (Унифицированная…, 2015). При этом в отдельных случаях ряд литостратиграфических данных, имеющих внутреннюю логику и (в отличие от обрывочных био-стратиграфических) достаточную полноту, по сути, проигнорированы. Наибольшие трудности вызывает верхняя часть палеоценового разреза, однако и относительно нижней полное понимание отсутствует. Особенно выделяется в этом плане Самарское Предволжье, лежащее на периферии области распространения палеоценовых отложений и по этой причине изучавшееся меньше. «Стратиграфическое расчленение верх- непалеоценовых образований региона, сводящееся к зональному расчленению разрезов и отнесению к тем или иным интервалам Общей стратиграфической шкалы (ОСШ), вызывает не-прекращающиеся дискуссии» (Афанасьева, 2009).
В особенности это касается региональной диатомовой шкалы, разработка которой велась её авторами (например, Глезер, 1979; Орешкина, Александрова, 2007 и 2017) на единичных разрезах, в основном на диатомитовом карьере Гран-ное Ухо у г. Сенгилей Ульяновской обл. Недостаточно проработанный подход отдельных авторов в сопоставлении данной шкалы с другими геологическими данными критикуется, например, в работе (Афанасьева, Зорина, 2008).
Попытки увязать между собой различные шкалы на практике выглядят заметно натянутыми. Выделенная Г.Э. Козловой (также на Гран-ном Ухе) радиоляриевая зона Buriella tetradica, с одной стороны, включается ей в нижнюю часть камышинской свиты (последняя ныне рассматривается как каранинская толща). Одновременно этот же автор приводит следующие утверждения: «В районах наших исследований совместных находок с ортогруппами нет. <…> на острове Кипр <…> комплекс радиолярий встречен вместе с планктонными фораминиферами <…>. Эта находка позволяет определить стратиграфический диапазон слоёв с B. tetradica в пределах зеландского яруса <…>. Другой ориентир – сравнение с близкими по видовому составу палеоценовыми комплексами радиолярий – даёт менее определённый возрастной интервал для обсуждаемых слоёв. <…> Положение границ зоны требует уточнения» (Козлова, 1999. С. 57). Здесь же в большинстве таблиц автор соотносит означенную зону с зеландским ярусом (включая основание танетского). Таким образом, определённость геологического возраста рассмотренной зоны – под вопросом.
Ещё более затруднительно сравнение диатомовых комплексов с диноцистовой шкалой: «палинологический анализ показал, что в естественных разрезах биокремнистых фаций Ульяновско-Сызранской подзоны диноцисты практически отсутствуют» (Александрова, 2013. С. 9). Данные же по известковому нанопланктону – одной из основных ортостратиграфических групп палеогена – для палеоцена региона отсутствуют.
Что же касается фораминиферовой шкалы, то единственный известный из палеоцена Самарского Предволжья вид Pyramidulina raphanistrum характеризует нижнесызранскую подсвиту.
Далее: предложенную авторами корреляционных схем увязку биозон с магнитозонами для верхнепалеоценовых образований сложно считать однозначной, по причине чередования магнитной полярности в рассматриваемый период, вкупе с недостаточной изученностью палео-магнитных характеристик отложений.
Наиболее проблемным вопросом, касающимся в первую очередь площади распространения палеоцена в Самарском Предволжье, является установление возраста силицитов Балашейского месторождения. Традиционно, в полном соответствии с литостратиграфическими и макропалео-нтологическими данными, они относятся к нижнесызранской подсвите, в настоящее время рассматриваемой в составе датского яруса. Однако специалисты по диатомеям на основе собственной шкалы предположили значительно более молодой возраст данного геологического тела, отнеся его к выделенной ими же по разрезам Сенгилея каранинской толще, которая вскоре была введена в стратиграфическую схему Поволжско-Прикаспийского субрегиона. Актуализированная схема корреляции для Самарского Предволжья приведена в табл. 1.
Для обоснования столь значительного омоложения (ориентировочно 3-5 млн. лет геохронологической шкалы) в пределах одного седиментационного бассейна предложено районирование (Орешкина, Александрова, 2007), в соответствии с которым юго-восточнее линии Кузнецк-Ульяновск распространялась лишь позднепалеоценовая трансгрессия (во второй половине камышинского века). Более осторожно рассмотрена диахронность литостратонов в работе (Афанасьева, Зорина, 2008), причём в ней для корреляции использованы не диатомовые, а нано-планктонные и магнитозоны. Опять-таки, авторы последней работы, критически переосмысливая данные по району Сенгилея, продолжают приравнивать к сенгилейским «диатомиты» Бала-шейки.
В связи с этим в первую очередь стоит обратить пристальное внимание на особенности региональной тектоники. Юго-восток палеоценового бассейна, включая всю территорию Самарского Предволжья, связан со Ставропольской депрессией. Эта отрицательная тектоническая с северо-запада граничит с Токмовским сводом по Кузнецкому региональному глубинному разлому. По отношению к Токмовскому своду она погружена на 70-75 м по поверхности маастрихтского яруса (Никитин и др., 2013). На юге депрессия ограничена Жигулёвской вершиной Жигулёвско-Пугачёвского свода, представлявшей возвышенный берег, и в ближайшем районе развития палеоцена (урочище Атмалы) амплитуда погружения превышает 200 м. Таким образом, если район Сенгилея мог быть мелководной окраинной зоной бассейна, достигнутой трансгрессией «на излёте» и, соответственно, с сокращён- ной мощностью палеоцена, то в полосе к северу от рек Сызранка и Тишерек (соответствующей Ставропольской депрессии) толща накопленных осадков оказывается не меньше, а иногда и больше таковой в центральных частях палеозалива. Разумеется, за исключением площади неогенового размыва в пределах переуглубленной долины Северо-Жигулёвской палеореки.
Если детализировать мощности литостратонов, то на местности оказывается, что над палеонтологически (по диатомеям) охарактеризованной толщей балашейских опок, залегающей близко к основанию палеоцена, но для которой ныне принимается каранинский возраст (близкий к терминальному палеоцену), залегает примерно 150-метровый интервал пород неустановленного возраста. Этот интервал литологически соответствует саратовским (т.е., лежащим ниже кара-нинской толщи) отложениям ближайших к западу и северо-западу площадей. При этом нужно отметить выдержанное и почти горизонтальное залегание основных маркирующих горизонтов, в т.ч. «камышинской плиты» в основании верхнекамышинских отложений.
Например, в урочище Осиновка, где подошва палеоцена соответствует ориентировочно 135 м абсолютной высоты, «камышинская плита» залегает на абсолютной отметке 243 м, а несколько выше неё (249 м) - подошва линзы трепелов в опоках. Верх линзы задернован; по данным (Государственная ..., 1954), её полная мощность составляет до 25 м. Логично было бы сопоставлять с каранинской толщей именно этот интервал, который явно относится к более позднему седиментационному циклу, нежели опоки Бала-шейки.
Разрешить данное противоречие возможно изменением возраста применяемой диатомовой зоны, связав это с фациальными и палеоэкологическими причинами. Либо, «если предположить, что выводы Т.Н. Орешкиной и Г.Н. Александровой о танетском возрасте нижнесызранских опок действительно правомочны, то тогда диахрон-ность данных слоёв может достигнуть всей длительности палеоцена (!?). Это логическое заключение, не прозвучавшее в обсуждаемой статье, может стать сенсационным. В этом случае недавно составленные стратиграфические схемы морского палеогена <.> должны быть признаны потерявшими актуальность» (Афанасьева, Зорина, 2008. С. 7-9).
Из вышеприведённого рассмотрения вопроса следует, что в плане геологического возраста диатомей Самарского Предволжья к данным, более детальным, чем палеоцен, нужно относиться с осторожностью. В настоящем обзоре все установленные для Балашейки виды условно отнесе- ны к нижнесызранской подсвите в её классическом понимании, подразумевающем положение в основании палеоцена Ульяновско-Сызранской зоны; ныне оно соответствует датскому ярусу. Исключение составляют лишь виды, указанные в литературе для разреза Кузькино (Орешкина, Александрова, 2007), поскольку он расположен на восточной окраине палеобассейна и, скорее всего, сопоставлять его нужно с Сенгилеем, но не с Балашейкой. Разумеется, необходимы более тщательные исследования палеоценовых разрезов Самарского Предволжья.
После значительного континентального перерыва морские и предшествующие им, сопутствующие и наследующие их озёрные отложения известны для акчагыльского – раннеапшеронского времени (палеоплейстоцен). Комплексы диатомей в них детально описаны для территорий в соседних регионах (Саратовское Заволжье, низовья Камы в Татарстане). Единственная работа, характеризующая для этого интервала территорию Самарской области (Гудошникова, Голик, 1980), описывает также и более поздний комплекс из отложений аллювиальной террасы среднего звена неоплейстоцена. К сожалению, исходные данные, включённые в эту работу, страдают фрагментарностью.
В современных условиях пресноводные представители диатомей составляют значительную часть альгофлоры региона. Несмотря на это, данных по голоцену для данной группы с территории региона в литературе нами не встречено.
Невзирая на достаточно хорошую изученность как ископаемых, так, тем более, и ныне живущих представителей группы, внутри неё надродовая систематика не устоялась и на настоящий момент оставляет желать лучшего. Cистемы, представленные в отечественных (Гор-бачик и др., 1996; Стрельникова, 1992) и некоторых зарубежных (GBIF) источниках устарели. Для более современной зарубежной классификации характерно чрезмерное дробление таксонов, особенно на уровне порядков. Это заметно, например, по нередко встречающемуся разнесению представителей одного ревизуемого рода по разным не только семействам, но и порядкам.
В настоящей работе использована систематика, принятая в динамично развивающейся базе данных AlgaeBase (Guiry, Guiry, 2023) и основанная на молекулярной филогенетике. В соответствии с ней диатомовые составляют отдел, разделённый на три класса. Представители каждого известны в регионе в составе как ископаемой, так и современной биоты.
Предлагаемая работа продолжает конспект ископаемой биоты для территории Самарской области (в современных административных границах региона) по доступным литературным источникам (Моров, 2020, 2021 и сл.).
Характер рассмотрения таксонов соответствует таковому в указанных статьях. Подвиды и прочие внутривидовые формы, выделяемые в литературных источниках, не указываются. Представители, не определённые до вида, даются только в том случае, если для данного стратиграфического интервала ни в одном из источников не приводятся ближе определённые.
Список представителей дан в табл. 2 – табл. 5 по родам и видам в алфавитном порядке, с указанием семейства. Приведены авторы первоначального описания вида, без указания авторов ревизий. Устаревшие наименования видов даны отдельным списком; в нём приведены главным образом лишь те синонимы, которые использованы в литературе конкретно для описываемой территории. Исправлены встречающиеся в источниках орфографические ошибки и опечатки.
Условные обозначения к таблицам:
sp.: неопределённый вид (или ряд видов из одного стратиграфического интервала);
{Genus} : невалидный род;
species ~: распространение вида на территории, захватывающей полностью или частично Самарскую область, без точной привязки к региону;
Genus, species : таксоны, имеющие важное стратиграфическое значение для региона;
species !: массовый вид.
Нумерация литературных источников в таблицах:
1 – Основы…, 1963; 2 – Орешкина, Александрова, 2007; 3 – Орешкина, Александрова, 2017; 4 – Бортников, 2010; 5 – Гудошникова, Голик, 1980; 6 – Животовская, 1951; 7 – Застрожнова и др., 2021.
Таблица 1.
Схема корреляции подразделений палеоцена на территории Самарской области
Correlation scheme for Paleocene divisions in the Samara region
|
ЯРУС |
Горизонт |
Свита , толща |
||
|
бассейн Сызранки |
бассейн Усы |
|||
|
подсвита |
||||
|
танетский |
камышинский |
каранинская |
сосновская |
|
|
саратовская |
||||
|
зеландский |
сызранский |
сызранская |
верхняя |
|
|
датский |
нижняя |
|||
Класс Радиальноцентрические (Coscinodiscophyceae)
Таблица 2
|
ВАЛИДНЫЕ ВИДЫ |
Порядок |
Семейство |
Невалидные синонимы |
Вертикальное распространение |
Литературный источник |
|
|
ярус |
горизонт |
|||||
|
Aulacodiscus archangelskianus Witt, 1885 |
Coscinodiscales |
Aulacodiscaceae |
P 1 d |
sz1 |
2 |
|
|
Aulacoseira granulata (Ehrenberg, 1843) Aulacoseira italica (Ehrenberg, 1838) |
Aulacoseirales |
Aulacoseiraceae |
Melosira Melosira |
Qnp Qnp |
a2kja a2kja |
|
|
Coscinodiscus moelleri Schmidt 1878 |
Coscinodiscales |
Coscinodiscaceae |
Pyxidicula |
P 1t |
kr |
|
|
Craspedodiscus moelleri Schmidt, 1893 |
Coscinodiscales |
Coscinodiscaceae |
? P 1 t |
?kr |
2, 3 |
|
|
Creswellia ferox Greville, 1859 |
Stephanopyxales |
Stephanopyxidaceae |
Pyxidicula, Stephanopyxis |
P 1 d P 1 t |
sz-kr |
|
|
Ellerbeckia arenaria D. Moore, 1843 |
Paraliales |
Radialiplicataceae |
Melosira |
Qnp |
a2kja |
|
|
Eupyxidicula turris (Greville et Arnott, 1857) |
Stephanopyxales |
Stephanopyxidaceae |
Pyxidicula, Stephanopyxis |
P 1 d |
sz1 |
|
|
Fenestrella antiqua (Grunow, 1883) |
Stellarimales |
Stellarimaceae |
? P 1 t |
?kr |
3 |
|
|
Hyalodiscus scoticus (Kutzing, 1844) |
Melosirales |
Hyalodiscaceae |
P 1 d |
sz1 |
2 |
|
|
Melosira ambigua (Grunow, 1903) Melosira subarctica (O. Mueller, 1925) |
Melosirales |
Melosiraceae |
M. italica |
Qnp Qnp |
a2kja a2kja |
6 6 |
|
Moisseevia uralensis (Jouse, 1949) |
Coscinodiscales |
Coscinodiscaceae |
Coscinodiscus sp. |
P 1t |
kr |
2, 3 |
|
Paralia grunovii ~ Gleser, 1992 |
Paraliales |
Paraliaceae |
P 1 d |
sz1 |
7 |
|
|
Podosira anissimovae (Gleser et Rubina, 1968) |
Melosirales |
Hyalodiscaceae |
P 1 d |
sz 1 |
2 |
|
|
Pseudopodosira aspera (Jouse, 1951) Pseudopodosira hyalina (Jouse, 1949) Pseudopodosira westii (Smith, 1856) |
Melosirales |
Pseudopodosiraceae |
Podosira Podosira Melosira |
P 1 d P 1 d P 1 d |
sz 1 sz 1 sz 1 |
2 2 2 |
|
Pseudostictodiscus angulatus Grunow, 1882 |
Stictodiscales |
Stictodiscaceae |
P 1 d |
sz 1 |
2 |
|
|
Stellarima microtrias (Ehrenberg, 1844) |
Stellarimales |
Stellarimaceae |
P 1 d |
sz 1 |
2 |
|
|
Stephanopyxis broschii ! (Grunow, 1884) |
Stephanopyxales |
Stephanopyxidaceae |
Costopyxis |
P 1 d P 1 t |
sz-kr |
|
|
Thalassiosira lacustris (Grunow, 1880) |
Thalassiosirales |
Thalassiosiraceae |
Coscinodiscus |
Qpp |
ak |
|
|
Thalassiosiropsis wittiana (Pantocsek, 1889) |
Archaegladiopsidale s |
Thalassiosiropsidaceae |
P 1 d |
sz 1 |
2 |
|
|
Triceratium kinkeri Schmidt, 1886 Triceratium ventriculosum Schmidt, 1874 |
Triceratiales |
Triceratiaceae |
Trinacria Trinacria |
P 1 d P 1 s P 1 t |
sz 1 sz 2 -kr |
|
|
НЕВАЛИДНЫЕ ВИДЫ |
Валидный синоним |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Coscinodiscus lacustris Grunow, 1880 Coscinodiscus sp. |
Coscinodiscales |
Coscinodiscaceae |
Thalassiosira Moisseevia uralensis |
Qpp – |
ak – |
5 4* |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Costopyxis broschii (Grunow, 1884) |
Stephanopyxales |
Stephanopyxidaceae |
Stephanopyxis |
P 1 d |
sz 1 |
2 |
|
Melosira arenaria D. Moore, 1843 Melosira granulata (Ehrenberg, 1843) Melosira italica (Ehrenberg, 1838) |
Melosirales |
Melosiraceae |
Ellerbeckia Aulacoseira Aulacoseira + M. subarctica |
Qnp Qnp Qnp |
a2kja a2kja a2kja |
6 5, 6 5, 6 |
|
Stephanopyxis ferox Greville, 1859 Stephanopyxis turris (Greville et Arnott, 1857) |
Stephanopyxales |
Stephanopyxidaceae |
Creswellia Eupyxidicula |
P 1t P 1 d |
kr sz1 |
2, 3 2 |
|
Triceratium mirabile Jouse, 1949 |
Sheshukovia |
P 1 t |
kr |
3 |
Список литературы Таксономический состав ископаемых диатомей Самарской области в свете проблем датировки палеоценовых комплексов
- Александрова Г.Н. Диноцисты палеоцена Среднего и Нижнего Поволжья: стратиграфия и палеооб-становки / автореферат дисс. к.г.-м.н. М., 2013. 22 с.
- Афанасьева Н.И. Значение палеоальгологических данных для расчленения палеоценовых отложений Среднего Поволжья // 200 лет отечественной палеонтологии (Москва, 20-22 октября 2009 г., ПИН РАН / под ред. И.С. Барскова, В.М. Назаровой. М.: ПИН РАН. 2009. С. 10.
- Афанасьева Н.И., Зорина С.О. О возрасте палеоценовых литостратонов Среднего Поволжья // Ученые записки Казанского университета. Серия: Естественные науки. Т. 150, № 1. 2008. С. 147-156.
- Бортников М.П. Геология Самарской области: учебное пособие. Самара: СамГТУ, 2010. 112 с.
- Глезер З.И. Зональное расчленение палеогеновых отложений по диатомовым водорослям // Советская геология. 1979, № 11. С. 19-30.
- Государственная геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Объяснительная записка к листу М-39-Х1Х (Сенгилей). М.: Гос. науч.-техн. изд-во литры по геологии и охране недр. 1954. 36 с.
- Горбачик Т.Н., Долицкая И.В., Копаевич Л.Ф., Пирумова Л.Г. Микропалеонтология: учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 1996. 112 с.
- Гудошникова Г.П., Голик О.В. Диатомеи плиоцен-четвертичных отложений Куйбышевского Поволжья // Вопросы геологии Южного Урала и Поволжья. Кайнозой. Вып. 21. Саратов, 1980. С. 126-133.
- Животовская А.И. Отчёт по палеонтологическому (спорово-пыльцевому) анализу материалов Куйбышевского гидроузла (экспедиция № 25) и Куйбышевского водохранилища (партия № 7) Л.: Ленинградский филиал гидропроекта МВД СССР, 1951. 110 с.
- Застрожнова О.И., Орлова Т.Б., Застрожнов А.С. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:1 000 000. Третье поколение. Серия Центрально-Европейская. Лист N-39 -Казань-Самара. Объяснительная записка / Минприроды России, Роснедра, ФГБУ «ВСЕГЕИ». СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2021. 467 с.
- Козлова Г.Э. Радиолярии палеогена бореальной области России // Практическое руководство по микрофауне России. Т. 9. 1999. М.: ВНИГРИ. 214 с.
- Моров В.П. Состав фауны ископаемых радиолярий Самарской области // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2021. Т. 29, № 4. С. 89-99.
- Моров В.П. Состав фауны ископаемых фораминифер Самарской области // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2020. Т. 29, № 3. С. 7-76.
- Никитин В.Н., Бурнаев В.С., Жукова Г.А. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 200 000. Серия Средневолжская. Лист ^38-ХХГУ (Барыш). Объяснительная записка. М.: МФ ВСЕГЕИ, 2013. 143 с.
- Орешкина Т.В., Александрова Г.Н. Палеонтологическая характеристика палеоцена - нижнего эоцена Ульяновско-Сызранской структурно-фациальной зоны Поволжско-Прикаспийского субрегиона // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2017. Т. 25, № 3. С. 73-98.
- Орешкина Т.В., Александрова Г.Н. Терминальный палеоцен Среднего Поволжья: биостратиграфия и палеообстановки // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2007. Т. 15, № 2. С. 93-118.
- Основы палеонтологии. Т. 14. Водоросли, мохообразные, псилофитовые, плауновидные, членистосте-бельные, папоротники / Ред. В.А. Вахрамеева, Г.П. Радченко, А.Л. Тахтаджана. М.: изд-во АН СССР. -702 с.
- Палеогеография СССР. Т. 4. Палеогеновый, неогеновый и четвертичный периоды / Ред. В.А. Гроссгей-ма, В.Е. Хаина. М.: Недра, 1975. 204 с.
- Стрельникова Н.И. Палеогеновые диатомовые водоросли / ред. А.И. Моисеевой. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1991. 312 с.
- Унифицированная стратиграфическая схема палеогеновых отложений Поволжско-Прикаспийского субрегиона. Объяснительная записка. М.: ВНИГНИ, 2015. 96 с.