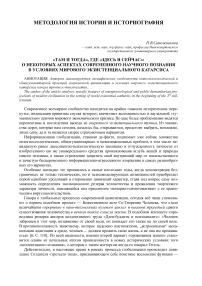"Там и тогда", где "здесь и сейчас": о некоторых аспектах современного научного познания в условиях мирового экзистенциального катарсиса
Автор: Сапожникова Н.В.
Журнал: Вестник Нижневартовского государственного университета @vestnik-nvsu
Рубрика: Методология истории и историография
Статья в выпуске: 4, 2010 года.
Бесплатный доступ
Автором анализируются специфические особенности онтогносеологической и общегуманитарной проекций современной цивилизации в условиях мирового экзистенциального катарсиса начала третьего тысячелетия.
Короткий адрес: https://sciup.org/14116610
IDR: 14116610
Текст научной статьи "Там и тогда", где "здесь и сейчас": о некоторых аспектах современного научного познания в условиях мирового экзистенциального катарсиса
Информационная глобализация, ставшая де-факто, поднимает уже сейчас множество онтогносеологических, общегуманитарных и цивилизационных проблем, в том числе невиданную ранее диссонантно-психологическую изоляцию и отчужденность личности от изобретенного ею же универсального средства проникновения вглубь вещей и природы самого человека, а также стремление защитить свой внутренний мир от насильственного и зачастую бесцеремонного информационно-агрессивного вторжения в самых разнообразных его вариантах.
Особенно наглядно это проявилось в самые последние годы, когда демонстрация безграничных не только технических, но и психомоделирующих возможностей приобретает порой однобоко уродливый и откровенно циничный характер, ставя под вопрос саму возможность определения эволюционного резерва человечества и проявления творческого характера личности, находящейся под прессингом «интернет-симптоматики» с ее хроническим вирусоносительством.
Говоря о глобальных процессах современной цивилизации, сегодня всё чаще упоминают о первом подобном проекте — Божественном акте Со-Творения Человека, что стало величайшим «прорывом в нано-технологиях нулевого цикла» и высокой трагедией самого существования человечества в вечном поиске смысла жизни. В подобном контексте справедлива ремарка авторов коллективного труда «Дзен-буддизм и психоанализ»: «Человек заброшен в этот мир, независимо от своей воли, он покидает его также не по своей воле. В противоположность животному, которое наделено инстинктами, „встроенными“ механизмами адаптации к среде, человек ... должен прожить свою жизнь, а не она им проживается» [6. С. 110]. По всей видимости, именно второй вариант «проживания жизни» становится одним из печальных итогов проявленности в новых исторических условиях того «коллективного сознания», о котором с таким восторгом когда-то говорил Гегель.
Действительно, в настоящее время в рамках процесса глобализации происходит появление Создателя «третьего типа», присваивающего себе поистине вселенские функции — homo faber — человека творческого, создающего ирреальный мир виртуального управления, экономики, политики, отношений, общения, чувств и даже науки с ее непредсказуемовпечатляющим вторжением в Природу, к живому голосу которой человек в принципе оказывается абсолютно равнодушен, особенно в России.
В последние годы это больше напоминает объявление войны всему тому, что не укладывается в традиционализм представлений, надежд и даже счетов, предъявляемых людьми стремительно меняющейся действительности. В том числе — с помощью научного знания, становящегося опасно симптоматичным диагнозом потери человеком духовной свободы, странной зависимости от изобретенной им же «технической суеты» и в целом (прав Макс Вебер!) — «разволшебствления» мира, за что последний и мстит цивилизации необъяснимыми техногенными катастрофами, природными катаклизмами, бездумно немотивированным стремлением ученых запустить маховик коллайдера, в очередной раз не соотнося цели подобного эксперимента с непредсказуемостью возможных результатов для судеб человечества в целом и каждой души в отдельности.
Введенный Аристотелем в труд «Поэтика» термин «катарсис» как раз и предполагал очищение и возвышение души путем созерцания трагедии, которая дисциплинирует чувства человека, поэтапно проводя через страдания и утраты, жалость и страх ради сохранения любви и благоговения перед Божественностью Идеи мироздания. Невзирая на всю горечь земного ее воплощения, герой и его антипод, по Аристотелю, два зеркальных «Я», отражаясь друг в друге, создают «коммуникативный резонанс от противного», вибрации которого помогают совершенствовать человеческую природу.
Весьма символично в этом плане звучит откровение в «Евангелии от Фомы»: «Пусть тот, кто ищет, не перестанет искать до тех пор, пока не найдет. И когда он найдет, он будет потрясен, и если он потрясен, он будет удивлен, и он будет царствовать над всем ». Рождение чувства глубокого удивления и восторга, возвращающего человеку целостность и непосредственность детского восприятия мира, является условием самосохранения человечества и самого этого мира. Не случайно в Библии даже словесное оскорбление человека объявляется смертным грехом, приравниваясь к физическому убийству (Матф. 5: 21—22).
Допустимо предположить, что и мировые кризисы вполне подпадают под аристотелевское «градационно-трагедийное очищение», заставляя человечество взрослеть через усвоение крайне болезненных уроков Истории, которая, как известно, «ничему не учит, а лишь наказывает за (их) незнание...» [5. C. 393]. Совсем как у Э.М.Ремарка в его «Черном обелиске»: «После войны ... безмерное несчастье сделало нас людьми. А теперь безмерно бесстыдная погоня за собственностью снова превратила в разбойников. Чтобы это замаскировать, нам опять нужен лак хороших манер» [9. С. 7.].
Понятие «катарсис» оказалось востребовано и современным психоанализом, превратившим его в один из эффективных методов психотерапии по избавлению человека от ложных страхов и навязчивых идей путем вызывания глубоких переживаний и изумления , ведущих к перемене отношения пациента к самому себе (а значит, и к окружающей его действительности, которую он способен моделировать в собственном сознании).
Древневосточная философия также отводила этому чувству роль великой трансформационной силы. Правда, вопрос о том, в каком направлении могут пойти изменения подобного уровня, остается открытым. Как, например, в символично-литературном пассаже, венчающем IV главу — «Кана Галилейская» — романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы», когда Алеша, разуверившись в любви и вернувшись к старцу, смотрит на звездное небо с его Млечным путем и вдруг падает «как подкошенный» на землю, плачет, ощущая необычный прилив сил: «Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом и осознал, и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алеша ... потом этой минуты. „Кто-то посетил мою душу в тот час“, — говорил он потом с твердою верой в слова свои» [4. С. 396].
Вопрос о дальнейшем сценарном развитии линии судьбы Алеши сам писатель освещает в одном из последних ответных писем (январь 1881 г.), адресованном издателю А.С.Суво-рину и воспроизведенном в «Воспоминаниях великого князя Александра Михайловича»: «Вам кажется, что в моем последнем романе „Братья Карамазовы“ было много пророческого? Но подождите продолжения. В нем Алеша уйдет из монастыря... И мой чистый Алеша — убьет царя...» [2. С. 50].
Еще древним грекам было известно, что все наше знание предсуществует в великом круге информационного отногенеза. И не природа дает человеку законы, а человек с их помощью пытается определить свое место, нередко злоупотребляя ее терпением. Согласно М.Буберу, когда в условиях взаимности человек говорит другому Я «Ты», происходит симметричная «перекодировка-слияние» другого Я, возвращенного человеку уже как «Ты» — зеркальное Я . Шопенгауэр отождествлял любовь с состраданием и считал справедливость моментом любви. Но в социуме возникают иные детерминизмы, когда явлена потребность не только сострадания-справедливости, но и законности-насилия, что создает эффект фрустрации и принятия на себя социально-значимых ожиданий с реализацией через символично-знаковые фетиши определенных ролей в обществе.
С эпохи Возрождения, а затем европейской Реформации, утверждается исключительная самоценность человеческого разума с его способностью оспаривать сложившиеся представления, вводя тем самым алгоритм пространственно-временной формы мысли как проявленной историософской событийности. В известной мере об этом размышлял замечательный философ М.К.Мамардашвили, констатируя, что мысль всегда избыточна по отношению к конкретному знанию, а бытие предстает как «сбывающееся в мысли». Выстраивая мир на уровне наших о нем крайне несовершенных представлений, мы неизбежно принуждаем его быть «по нашему образу и подобию », обрекая самих себя на торопливость хождения по эволюционному кругу, гордясь каждым из пройденных этапов и не понимая всего трагизма собственной «вненаходимости в пространстве и во времени» с закономерным ростом бессилия, растерянности и индивидуализма-эго. И, как следствие, — попыткой овладеть (силой) темпоральностью процессов, присваивая себе право на узурпацию времени.
Как известно, время ретроспекции человека — поистине релятивное время, или, по словам С.Мандельброта, время Эйнштейна. Во всяком случае, на опыте недавнего исторического прошлого очевидно, что земное проявление «нового чувства времени» оказывалось зачастую сопряжено с революционными катаклизмами, где революция выступала в качестве не столько обновления, сколько хлыста, «подстегивающего» временной фактор. Прозорливый Василий Андреевич Жуковский в письме к своему уже взрослому царственному воспитаннику великому князю Константину Николаевичу обсуждает проблемы «высокой» политики, особый акцент делая на вопросе революционного ниспровержения «святынь». И, конечно же, прав поэт, когда в письме из Бадена 2/14 марта 1850 г., отнюдь не подыгрывая своему царственному адресату, размышляет: «Революция есть ... безумно-губительное усилие перескочить из понедельника прямо в среду (сотворение мира. — Н.С. ). Но и ... из понедельника назад в воскресенье ... столь же ... губительно. Одно есть революция вперед, другое — революция назад» [7. С. 1437].
Хотя, с другой стороны, как замечает М.К.Мамардашвили в «Лекциях о Прусте», изначально действует закон сознательной психологической жизни, в рамках которого каждое мгновение происходит удержание в потоке времени почти кататонического сращения себя с воображаемым образом-тождеством, когда человек правит (искажает, «домысливая»?) образ самого себя. Тем самым, возможно, встреча с самим собой в жизни может так и не состояться или быть «перенесена» на столь поздние сроки, что вообще потеряет свой смысл, что сегодня и становится подлинной трагедией миллионов людей.
Правда, сам термин «экзистенция», согласно определению, данному его автором М.Хай-деггером, означает истинное, внутриличностное бытие человека, поток его переживаний, не сводимый ни к каким внешним объективированным формам [13. С. 198, 210.]. Однако именно проекция нашего внутреннего «Я», которое разучилось любить, сегодня управляет миром, схематизируя, упрощая и «домысливая» его в тех пределах собственного развития, которые позволяют выжить и даже диктовать природе и истории свою волю, не отдавая отчет о возможных последствиях подобного «контакта». «Опыт себя, — пишет М.Фуко, — это не только опыт укрощения силы или верховенства над мощью, готовой восстать, но и опыт наслаждения собой» [11. C. 73], в том числе на уровне появления специфичного нарциссизма «политологического окраса» с его явно завышенной степенью значимости собственного присутствия в истории. Поэтому оценить и понять истоки современного тотального экзистенциального вакуума с его сном разума, рождающего, как известно, лишь чудовищ, — чрезвычайно важно для создания программы выхода из подобного цивилизационно-духовного тупика или хотя бы понимания всей серьезности проблемы.
По смелому замечанию С.А.Смирнова, «практика философии, искусства, религии (и, естественно, истории) — практика здоровых людей, но только тех, кто еще что-то хочет понять в своей экзистенции (курсив наш. — Н.С. )» [10. С. 29]. В том числе — с помощью аристотелевского видения мира через пластику триединства Бога, Космоса и Человека, связующим звеном чего является эффект присутствия прошлого в ситуационном «здесь и сейчас», «где и когда» оказывается востребованной историческая реализация человечества во благо человеку, а не во вред ему. Особенно на уровне научного знания, которое за прошедшие столетия обогатилось многими ценными наработками в области методологии поиска истины.
Многомерность историографической событийности с ее «уплотнением темпоральных уровней» приобретает новое информационное масштабирование: способность человечества принять «пакеты новой информации» порой создает ощущение бессилия и ненужности отдельного человека, воспринимающего подобное информационное вторжение в его жизнь как «шаг в объятия смерти». Как ни странно, именно сегодня актуализированными оказываются пространные рассуждения Фрэнсиса Бэкона (1561—1626) о роковых для «человека ищущего» «заблуждениях-идолах». Это «идолы рода», воздействующие на человеческий интеллект в силу самой природы человека, принимающего всякое свидетельство на веру; «идолы пещеры» с искажением восприятия действительности как результата индивидуальных личностных особенностей; «идолы площади», где вольность обращения с языком рождает искажение картины мира; «идолы театра» как авансцены захватывающей игры в «великого и могучего Гудвина» — авторитет отдельного человека или ряда лиц с их ложно понятым «Я» и навязываемым толпе его растиражированным образом, где историческая массовка всегда готова к восприятию искаженных доказательств и философских «откровений» в духе традиционного «Король умер. Да здравствует король!».
Примечательно, что именно Бэкон акцентировал внимание на сборе не столько подтверждающих авторский взгляд фактов, сколько противоречащих ему данных, фактически ведя речь не о декларируемой сегодня в научных статьях и диссертациях так называемой «научной объективности», а действительно задавшись целью ее отыскать, сделав инструментом научного анализа . Тем самым он предвосхитил теоретические положения, изложенные в трудах известного философа ХХ в. Карла Поппера, сделавшего фальсификацию, а не верификацию подлинной проверкой гипотезы. Последний акцентировал внимание на важности понятийно-категориальной градации, в своей основе уже содержащей методологический акцент, при формулировании исторических теорий, отсутствие чего свидетельствует о недооценке исследователями именно концептуального видения сути проблемы: «Эти теории неявно содержатся ... в терминологии» [8. С. 167].
Можно предположить, считает С.С.Экштут, что «изучение исторических аспектов всех видов творческой деятельности человека, включая ее условия, формы и результаты, будет с трудом укладываться в прокрустово ложе традиционной историографии. Ныне монография пребывает в отсутствии любви и смерти.... Процесс написания научной монографии может быть образно представлен как „рисование по клеточкам“: все округло и плавно, нет ни шероховатостей, ни острых углов. Овал, изображенный с помощью циркуля и линейки, — вот наглядный образ полученного результата....Кризис исторического знания, о котором так много говорят и пишут в наши дни, связан прежде всего с формой и логикой изложения полученных результатов» [14. С. 76—77]. Для подтверждения этого наблюдения достаточно посмотреть на горы современных «нечитабельных» «монографий» с их иллюзорными «индексами цитирования», совсем в духе их собратьев-двойников, растиражированных в советский период «сочинений» по истории КПСС.
Между тем подлинная научная объективность и профессионализм бывают проявлены через понимание важности восстановления исторической справедливости-истины даже ценой отказа от собственных амбиций и ранее заявленной исследовательской стратегии. Именно так произошло с монографией американского ученого Цинтии Х. Виттекер, посвященной жизни и деятельности С.С.Уварова. В преамбуле своей работы она объясняет причины ее появления, открыто дистанцируясь от своей же докторской диссертации по той же проблематике, отразившей традиционный взгляд на эту сложную личность и написанной не на архивных, а на имевшихся тогда в распоряжении автора материалах: «В 1973 г. я получила грант на исследования в СССР, и материал, добытый во время этой поездки, преобразил мое представление об Уварове. Он убедил меня в том, что я должна почти полностью отбросить свою диссертацию и начать исследование почти заново». Что и было ею блестяще сделано, с эпиграфом-посвящением: «Моим русским друзья и коллегам — теперешним носителям и хранителям той культуры, которой отдана моя любовь» [3. С. 5, 6].
Современный этап, названный на Западе regime d’historicite с его «презентизмом», характеризуется, с одной стороны, поглощением прошлого настоящим, а с другой — чрезмерным доверием не столько к истории, сколько к «памяти», способной не только аккумулировать прошлое, но и компрометировать его. Особенно сегодня, в ситуации неизбежного расширения самой источниковой базы, что ведет к неожиданным «новым прочтениям» исторических сюжетов, казалось бы, устоявшихся в сознании современников, как в случае с публичным обнародованием некоторых ранее неизвестных документальных страниц «реал-политик» швейцарского государства периода Второй мировой войны. Как оказалось, Швейцария поддерживала очень тесные отношения с фашистской Германией, несмотря на информированность о характере происходивших в Европе военных событий. Это развеяло миф о степени риска потерять государству в тех условиях свою независимость, что корректировало сам образ «нейтральной» республики, вполне объясняя ранее «всплывавшие» факты о секретных банковских счетах фашистской Германии, хранившихся в «недрах цюрихских гномов».
Подводя итоги, следует напомнить о правиле «золотого исторического сечения»: «там и тогда», где находилось человечество еще вчера, «здесь и сейчас» ему уже подготовлен исторический результат. Вопрос лишь в соотнесении итога со степенью ожидания, существенно корректируя уверенность человека априори, что «дух совести» не ошибается никогда, и на тысячелетия предопределяя противостояние личности и ею же возведенного в абсолют здания «личностной относительности» с «сочинением себя человеком». Об этом в свое время заявил Ф.М.Достоевский, а практикой сделал А.М.Горький. «Вечное» философствование как проживание каждый раз заново кардинальных вопросов метафизики бытия, по М.Мамардашвили, создает некую проекцию замысла «человека возможного». Но, говоря словами М.Фуко, скользя в маске всеобщего человека, он тем не менее избегает встречи с самим собой: «Мы ведем себя ... над нашим истинным Бытием» [12. С. 488].
Думается, это и не позволяет нам по-настоящему талантливо проживать наш собственный «экзистенциальный дубль». А время уходит, приближая нас к экзамену не только на экзистенциальную, но и на цивилизационную зрелость. И вновь обратимся к парафразу мудрого В.О.Ключевского: «История учит тому, что ничему не учит тех, кто не умеет и не хочет учиться» , а между тем, как показывает российская история, неусвоенных уроков накопилось слишком много.
Правда, требование вернуться в ту духовно-поэтизированную среду, где состояние «сатори» рождало способность обнаруживать великолепный дворец на одной травинке, которая в простоте и великолепии «высшего» оказывалась способна скрывать дворец из драгоценных камней, — в третьем тысячелетии, возможно, очередная утопия. Присланная нам монография профессора-филолога из Владимира И.Л.Альми «Внутренний строй литературного произведения», судя по ее названию, была, казалось бы, «не в тему» к предмету нашего разговора. Однако мысли одной из глав «Больше всего боюсь беспамятства...» [1. С. 311—323] на удивление органично вписались в канву рассматриваемой проблемы. За этим стоит понимание самоценности той живой души, факт прихода которой в этот мир освящен таинственным смыслом до нас. А процесс вечной разгадки этого и составляет, собственно, тайну мироздания с трагедией выбора: богатства единственной капли воды или нищеты сокровищницы дворца. И дай Бог нам вновь не ошибиться в «анамнезе», и особенно — в назначении «лекарства» от исторического беспамятства.
Список литературы "Там и тогда", где "здесь и сейчас": о некоторых аспектах современного научного познания в условиях мирового экзистенциального катарсиса
- Альми И.Л. Внутренний строй литературного произведения. СПб., 2008.
- Великий князь Александр Михайлович. Воспоминания. Две книги в одном томе. М., 1999.
- Виттекер Ц.Х. Граф С.С.Уваров и его время. СПб., 1999.
- Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Петрозаводск, 1970.
- Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. Материалы разных лет. М., 1990. Т. 9.
- Мартино де Р., Судзуки Д., Фромм Э. Дзен-буддизм и психоанализ. М., 1997.
- Письма В.А.Жуковского в.к. Николаю Михайловичу // Старина и новизна. 1900. Кн. 3.
- Поппер К. Нищета историзма. М., 1993.
- Ремарк Э.М. Черный обелиск. Жизнь взаймы. М., 1992.
- Смирнов С.А. Опыты по философской антропологии // Философские науки. 1998. № 3-4.
- Фуко М. История сексуальности - III. Забота о себе. Киев; М., 1998.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарного знания. М., 1977.
- Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993.
- Экштут С. Битвы за храм Мнемозины. Очерки интеллектуальной истории. СПб., 2003.