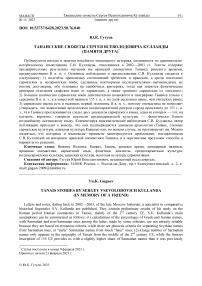Танаисские сюжеты Сергея Всеволодовича Кулланды (памяти друга)
Автор: Гугуев Ю.К.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Историческая филология
Статья в выпуске: 15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Публикуются письма и заметки покойного московского историка, специалиста по сравнительно-историческому языкознанию С.В. Кулланды, относящиеся к 2002-2003 гг. Тексты содержат предварительные результаты изучения им иранской ономастики Танаиса римского времени, преимущественно II в. н. э. Основные наблюдения и предположения С.В. Кулланды сводятся к следующему: 1) подсчёты процентных соотношений греческих и иранских, а среди последних сарматских и несарматских имён, сделанные некоторыми исследователями-антиковедами, не вполне достоверны, ибо основаны на ошибочных критериях, тогда как имеются фонетические критерии отделения скифских имен от сарматских, а также «ранних» сарматских от «поздних»;большое количество сарматских имён действительно появляется в эпиграфике Танаиса только с середины II в. н. э., а в известной надписи 155 г. н. э. их доля несколько выше, чем считалось ранее;сарматские имена есть в надписях первой половины II в. н. э., поэтому ономастика не позволяет утверждать, что выявленный археологами позднесарматский разгром города произошёл до 155 г. н. э.; 4) в Танаисе прослеживаются следы двух диалектов сарматского языка, один из которых - тот, на котором, вероятно, говорили носители среднесарматской культуры - фонетически близок позднейшему осетинскому языку. Комментируя лингвистические наблюдения С.В. Кулланды, автор публикации приходит к выводу, что они подтверждаются данными археологии (Танаис, степные сарматские культуры, аланская культура Кавказа) или, во всяком случае, не противоречат им. Можно надеяться, что историки и языковеды-иранисты заинтересуются проблемами, поставленными С.В. Кулландой на материале иранской ономастики Танаиса, и в перспективе предложат способы и варианты их решения.
Нижнее подонье, кавказ, танаис, римское время, лапидарные надписи, иранская ономастика, сарматский язык, фонетика, диалекты, среднесарматская культура, позднесарматская культура, аланская культура, меотская культура, сарматизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14129243
IDR: 14129243 | DOI: 10.53737/6428.2023.50.76.040
Текст научной статьи Танаисские сюжеты Сергея Всеволодовича Кулланды (памяти друга)
30 ноября 2020 г. умер московский историк, специалист по сравнительно-

историческому языкознанию, филолог, знаток языков, переводчик и мастер междисциплинарных исследований Сергей Всеволодович Кулланда. Последние два десятилетия своей научной деятельности он был продуктивно занят иранистикой, в частности, проблемами скифского языка и этногенеза скифов, и вслед за польским лингвистом К.Т. Витчаком изучал фонетические критерии разделения скифского и сарматского (Башарин, Захаров 2021: 269—271). Надо сказать, что прежде в отечественной науке в русле представлений В.И. Абаева эти самостоятельные языки рассматривались недифференцированно — в качестве «скифо-сарматских наречий», т.е. совокупности всех иранских диалектов и говоров, существовавших на территории Причерноморья между VIII—VII вв. до н.э. и IV—V вв. н.э. (Абаев 1979: 272—274). Данное направление лингвистических изысканий Сергея Всеволодовича нашло отражение в ряде его статей (Кулланда 2005; 2006; 2011а; 2011б; Kullanda 2006; Кулланда, Раевский 2004) и в книге об этногенезе скифов (Кулланда 2016).
Sergey Vsevolodovich Kullanda. Наверное, не всем известно, что в своих скифо- Moscow. 2011. Photo by the author. сарматских штудиях С.В. Кулланда эпизодически обращался к иранской ономастике античного Танаиса1 римского времени. Непосредственные упоминания данной темы довольно редки в
Сергей Всеволодович Кулланда.
Москва. 2011 г. Фото автора.
МАИАСП № 15. 2023
Танаисские сюжеты Сергея Всеволодовича Кулланды (памяти друга)
работах исследователя (Кулланда 2006: 195—196, сноска 1), т.к. в её изучении Сергею Всеволодовичу не удалось далеко продвинуться по независящим от него обстоятельствам2. Однако в личной переписке с автором этих строк (2002—2003 гг., электронная почта)3 он изложил интересные мысли относительно фонетики и этимологии ряда иранских имён из Танаиса, а также затронул проблемы исторической трактовки количественного распределения данных имён в датированных надписях II в. н.э.
Мне кажется, соображения, высказанные тогда С.В. Кулландой, несмотря на их сугубо предварительный характер, достойны введения в научный оборот. Полагаю, Сергей Всеволодович вряд ли был бы против публикации своих личных писем и заметок: и не только потому, что предоставил мне право распоряжаться ими по собственному усмотрению (Приложение I.1). Наверное, он не увидел бы в этом существенного нарушения методологического принципа, которого придерживался в научном исследовании. Данный принцип ясно сформулирован им в книге о скифах: «… при обращении к бесписьменному языку, от которого до нас дошли лишь отрывочные сведения, поневоле приходится прибегать к догадкам, умозрительным рассуждениям и слабо подкреплённым материалом гипотезам, от чего в значительной мере (хотя и не полностью) избавлены специалисты по лучше документированным древним языкам. Мне думается, однако, что лучше высказать не вполне обоснованное суждение (стараясь, конечно, чтобы аргументы в его поддержку не противоречили твёрдо установленным фактам), которое, даже если оно окажется неверным, может подтолкнуть коллег к поиску иного решения, чем обойти проблему молчанием из боязни совершить ошибку» (Кулланда 2016: 14).
Публикуемые тексты принадлежат высококвалифицированному учёному. Содержащиеся в них догадки и предположения обладают, по меньшей мере, эвристической ценностью, которую я постараюсь раскрыть (вероятно, лишь начну раскрывать), комментируя их под углом зрения археологии Танаиса, сарматов и аланов Кавказа. Кстати, такого рода комментарий (хотя, разумеется, не только он) позволяет издать профессиональную аналитику языковых материалов в историко-археологическом журнале; тем более что, отвечая на мои вопросы, касающиеся иранского ономастикона Танаиса, Сергей Всеволодович в ряде случаев прибег к довольно подробным разъяснениям, которые не понадобились бы ему при общении с языковедами, но, несомненно, делают его ответы более понятными читателю без профильного (лингвистического) образования.
Несколько слов об обстоятельствах обращения к С.В. Кулланде. Ещё в 1997 г. он вместе с В.И. Абаевым консультировал меня и моих соавторов, археологов АМЗ «Танаис», относительно дипинти Οσι Μαρδ, Οσια Μαρδ, Οσιαδ (или Οσιαα) Μαρδα из танаисской усадьбы 2 (раскоп IV), погибшей в середине III в. н.э. Скорее всего, эти пометки на многочисленных разнотипных амфорах являлись аббревиатурой личного имени и патронимика её владельца (Гугуев, Ильяшенко и др. 2007: 441—442). По мнению наших консультантов, первое, ввиду возможного варианта Οσιαδ, могло представлять собой часть иранского имени, восходящего к
МАИАСП № 15. 2023
was-i-ad («поедающий телят»)4, во втором с довольно большой долей уверенности следовало видеть Μάρδαυος (Мардав), т.к. в фиасной надписи 228 г. н.э. упомянут человек по имени Μάρδαυος Ζαράνδου (Мардав сын Заранда), а другие имена с основой Μαρδ- в Танаисе отсутствуют5. Имя Заранд иранского происхождения, древнеосетинское (аланское) и означает «старый». Этимология имени Мардав менее ясна, но поскольку носивший его — сын явного иранца Заранда, можно, по-видимому, производить данное имя от иранского корня mār — (убивать): ср. осетинское mard (убитый, мертвец, труп) (Гугуев, Ильяшенко и др. 2007: 443). Информация двух ведущих специалистов по иранским языкам не расходилась с нашим предположением о принадлежности состоятельного владельца усадьбы к городской варварской общине танаитов (ταναεῖται). Выдвигая свою версию, мы также имели в виду наличие в хозяйстве этого человека вещей, ассоциирующихся с кавказскими аланами и степными сарматами: многочисленной аланской гончарной сероглиняной керамики и лепной позднесарматской курильницы с прочерченными на боковых гранях косыми крестами (Гугуев, Ильяшенко и др. 2007: 443—444).
В 2002 г. консультация Сергея Всеволодовича понадобилась мне и В.П. Глебову при подготовке рецензии на книгу И.В. Сергакова «Сарматские курганы на Иловле» (Гугуев, Глебов 2002; Сергацков 2000). В монографии волгоградского археолога формирование позднесарматской культуры в бассейне р. Иловли (левый приток Дона в Саратовской и Волгоградской областях) было отнесено ко времени «около середины II в. н.э.», а открытые здесь позднесарматские памятники датированы в пределах второй половины II — первой половины III в. н.э. (Сергацков 2000: 169, 239). На момент написания книги её автор, по-видимому, ещё не знал о разгроме Танаиса II в. н.э., выявленном раскопками 90-х гг., и о значении данного факта для исследования миграции поздних сарматов на территории к западу от Волги в аспекте хронологии (Bezuglov 1999; Безуглов 2001: 108—119; 2010: 59— 60, 107—111; Арсеньева, Науменко 2004; Безуглов, Глебов, Парусимов 2009: 114—115). Таким образом, у нас возникал повод затронуть танаисские события II в. в рецензии.
Археолог и нумизмат С.И. Безуглов, тщательно изучивший монетные находки из нескольких погибших жилых комплексов и мусорных слоёв, образовавшихся в результате чистки города после разгрома6, датировал этот драматический эпизод танаисской истории концом 30-х — началом 70-х гг. II в. н.э.7 и дал ему правдоподобное объяснение. По мнению С.И. Безуглова, город подвергся нападению позднесарматских военных (всаднических) формирований, был взят штурмом, частично сожжён и разрушен. Впрочем, кризис II в. н.э. не имел столь тотальных и долгосрочных последствий, как катастрофа начала 50-х гг.
МАИАСП № 15. 2023
Танаисские сюжеты Сергея Всеволодовича Кулланды (памяти друга)
следующего столетия. Скоро Танаис очистили от завалов и мусора, поврежденные постройки были восстановлены, либо перестали использоваться. И только с третьей четверти II в. н.э. здесь ощущается реальное присутствие сарматов, на что ранее указывал Д.Б. Шелов в работах, посвящённых составу танаисских имён и динамике его изменения на протяжении II — первой половины III в. н.э. (Bezuglov 1999: 427; Безуглов 2001: 110, 114—119; 2010: 110; Безуглов, Глебов, Парусимов 2009: 114—115)8.
В свою очередь у нас с В.П. Глебовым возникла мысль сузить обозначенный С.И. Безугловым промежуток времени, в течение которого мог произойти разгром, на основании некоторых данных танаисской эпиграфики. Мы исходили, прежде всего, из наблюдений Д.И. Даньшина, развившего идеи Д.Б Шелова. Д.И. Даньшин заметил, что рост числа сарматских имён впервые фиксируется в фиасной надписи 155 г. н.э. Он также высказал предположение, что община сарматов—танаитов, архонт которой впервые упомянут в строительной надписи 188 г. н.э. наряду с эллинархом, возникла только в середине II в. н.э., а не существовала с момента основания эмпория на Танаисе, как считалось ранее (Даньшин 1990: 52—53)9. Принимая во внимание выводы Д.И. Даньшина, мы допускали, что разгром и появление в надписи 155 г. н.э. большого количества имён сарматов могут быть взаимосвязаны: а именно, после завоевания города номады получили здесь права гражданства и образовали самоуправляемую общину танаитов. Значит, год создания надписи, вероятно, можно считать terminus ante quem по отношению к военнополитическому кризису середины II в. н.э.
Однако нас несколько настораживало, что и Д.И. Даньшин, и даже такой крупный учёный, как Д.Б. Шелов, были антиковедами, а не специалистами в области иранского языкознания. Поэтому мы попросили С.В. Кулланду проверить, насколько справедливы определения обоими авторами того или иного имени в качестве сарматского и,
МАИАСП № 15. 2023
следовательно, какова степень достоверности произведённых подсчётов разных групп имён в танаисских надписях II в. н.э.10. Основные итоги предварительного анализа ономастического материала, выполненного Сергеем Всеволодовичем по нашей просьбе (Приложение I.2, I.3 и I.5), можно резюмировать следующим образом:
-
1. Подсчеты процентных соотношений греческих и иранских (а среди последних сарматских и несарматских) имён в эпиграфике Танаиса, сделанные Д.Б. Шеловым и Д.И. Даньшиным, не вполне достоверны, т.к. основаны на ошибочно выбранных критериях. Однако существуют достаточно надёжные фонетические критерии отделения скифских имен (слов) от сарматских или «ранних» сарматских от более «поздних» — отпадение тематических гласных, переходы p>f , t>d , k>g , метатезы согласных θr>rθ , sp>ps>fs и некоторые др.
-
2. В надписи 155 г. н.э. доля сарматских имён несколько выше, чем утверждал Д.И. Даньшин, а большое их количество действительно появляется в эпиграфике Танаиса только с середины II в. н.э.
-
3. Иранские, в том числе явно сарматские, имена есть в надписях первой половины II в. н.э., поэтому ономастика не позволяет утверждать, что разгром города произошел до 155 г. н.э.
-
4. Не ясно, как соотносятся в реальном историческом времени «ранний» и «поздний» диалекты сарматского языка, следы которых, по-видимому, прослеживаются в иранском ономастиконе Танаиса. Не исключено, что диалект пришедших в Европу в середине II в. н.э. носителей позднесарматской культуры был архаичнее диалекта (диалектов? — Ю.Г.) ранних (III—I вв. до н.э.) и средних (I — первая половина II в. н.э.) сарматов, который фонетически стоит ближе к позднейшему осетинскому языку.
Учитывая одно из заключений С.В. Кулланды (3), мы с В.П. Глебовым в рецензии на упомянутую книгу воздержались от сужения даты разгрома Танаиса и ограничились довольно широкой, но не вызывающей сомнения датировкой С.И. Безуглова (см. выше). Мы также привели свидетельства источников о предполагаемой позднесарматской военной экспансии середины II в. н.э. в соседних с Боспором северопонтийских городах и областях (Неаполь Скифский, Херсонес, Ольвия с поселениями её хоры) (Гугуев, Глебов 2002: 101, 102).
В середине 2000-х годов цель уточнить время появления поздних сарматов в северопонтийской зоне ставил перед собой С.Ю. Внуков. Его внимание также привлекла танаисская надпись 155 г. н.э. Рост в ней числа сарматских имён11 исследователь интерпретировал в качестве доказательства существования в городе варварской общины, наличие которой означало, что к моменту создания надписи разгром, возможно, уже состоялся (Внуков 2007: 167—168). Преобладание в надписи «старых», т.е. давно известных в Северном Причерноморье иранских имён, С.Ю. Внуков объяснил тем, что первыми в общину танаитов влились сарматы, которые и ранее в течение многих десятков лет жили в городе, не обладая гражданскими правами, из-за чего их имена редко попадали в надписи. Одновременно к общине присоединились потерпевшие поражение и лишившиеся своих кочевий номады из округи эмпория на Танаисе — носители среднесарматской культуры. И только к концу столетия по мере постепенной эллинизации позднесарматских кочевников, завоевавших Танаис и на первых порах только формально вошедших в состав его граждан, их имена («новые») появляются в городской эпиграфике (надпись 188 г. н.э. и более поздние) (Внуков 2007: 168—170).
Свои выводы, касающиеся танаисского ономастикона II в. н.э., исследователь подкрепил наблюдениями за хронологией самих лапидарных памятников. По его мнению, редкость в
МАИАСП № 15. 2023
Танаисские сюжеты Сергея Всеволодовича Кулланды (памяти друга)
Танаисе надписей, созданных в правление Реметалка, косвенно свидетельствует о том, что нападение сарматов тогда и произошло. При преемнике Реметалка Евпаторе городская жизнь успела нормализоваться, что выразилось в бóльшем количестве как фиасных, так и строительных надписей (Внуков 2007: 165—166). С.Ю. Внуков рассмотрел кризис в Танаисе в контексте известных по письменным и археологическим источникам событий в северопонтийском регионе, предположительно вызванных приходом сюда во II в. н.э. новой волны кочевников из Азии (Внуков 2007: 170—177). Интересно, что некоторые из этих событий случились, по-видимому, ранее маркируемого танаисской надписью 155 г. н.э.: например, размещение в правление Антонина Пия в Ольвии римских войск, призванных защитить город от вторжения «тавро-скифов» (Юлий Капитолин) — в действительности сарматов. Из текста военного диплома осевшего в Ольвии ветерана явствует, что императорский указ о его демобилизации был подписан и опубликован в 155—157 гг. н.э., т.е. к тому моменту римский гарнизон уже достаточно долго находился в городе (Внуков 2007: 171—173). В середине — второй половине 40-х гг. II в. н.э. имперские подразделения вводятся в Херсонес, а не позднее 50-х гг. Рим создаёт военный опорный пункт под Балаклавой (Внуков 2007: 175).
Подводя итоги своего исследования, С.Ю. Внуков пишет: «… анализ разнообразных данных позволяет более точно определить время разрушения Танаиса носителями позднесарматской культуры во II в. С наибольшей вероятностью это событие могло произойти между 140 и 153 гг. Видимо, этот период можно даже ограничить первой половиной 140-х гг. (ок. 140—145 гг.), т.к. для восстановления Танаиса, реорганизации гражданской общины и эллинизации варваров, вошедших в число граждан (что фиксируется надписью 155 г.), требовалось определенное время» (Внуков 2007: 171—173)12.
Наиболее весомый из аргументов С.Ю. Внукова — рост числа сарматских имён в надписи 155 г. н.э., что подтверждено их квалифицированной атрибуцией, выполненной иранистом С.В. Кулландой. Остальные аргументы и соображения, по сути, не столько доказывают основной тезис исследователя, сколько не противоречат ему и «срабатывают» все вместе, но не по отдельности. По-видимому, вопрос об уточнении даты разгрома Танаиса в пределах временного интервала, достоверно определённого С.И. Безугловым на основании монетных находок, остаётся открытым. Впрочем, судя по косвенным данным, проанализированным С.Ю. Внуковым, несколько более вероятно, что город подвергся нападению между концом 30-х гг. и началом 50-х гг. II в. н.э., а не позднее.
Принципиален вывод С.В. Кулланды о наличии в танаисских надписях первой половины II в. н.э. имён, которые вполне могли быть сарматскими: Маст, Ардар, Дад, Фадинам, Хофарн, Азий и некоторых других. Напомню, что Д.Б. Шелов, а вслед за ним Д.И. Даньшин причисляли эти имена к северопонтийскому или восточносредиземноморскому иранскому ономастикону, т.е. в точном смысле считали их западноиранскими, не имеющими отношения к восточноиранскому сармато-аланскому языку (Приложение I.2), что и теперь принято некоторыми авторами (Завойкина 2004: 165—166; 2013: 186—187).
Тем не менее Д.Б. Шелов со свойственной ему научной интуицией, основанной на глубоком знании древностей античного Танаиса и Северного Причерноморья и вполне адекватных представлениях об известных на тот момент памятниках степных культур, допускал проникновение сарматов в город с I в. н.э. (Шелов 1974: 238). Он выделял «два этапа усиления сарматского элемента», обусловленные «двухкратным приливом» в Танаис — в I и во II вв. н.э. — носителей соответствующих (средне- и позднесарматских) культовых норм, и констатировал, что особенно чётко прослеживается «вторая волна». По мнению Д.Б. Шелова, её отразили: в эпиграфике — многочисленные «новые» иранские имена (см. выше); в некрополе — погребения, в частности, подбои, с северной ориентировкой умершего,
МАИАСП № 15. 2023
положением кистей рук на таз и перекрещиванием ног в голенях13, распространение европеоидного брахицефального типа с широким, высоким и уплощённым лицом и обычая прижизненной кольцевой искусственной деформации черепа; в материальной культуре города — лощёная керамика «сарматских форм», сосуды с зооморфными ручками, курильницы с боковыми отверстиями, некоторые типы зеркал, тамгообразные знаки и т.п. (Шелов 1972: 238, 239; 1974: 90—91)
Начиная с 80-90-х гг. внимание археологов было сосредоточено, главным образом, на этой поздней «волне» благодаря дальнейшему накоплению информации о ней в ходе раскопок14. В 1979—1980 гг. на восточном участке городского некрополя были открыты более двух десятков погребальных комплексов, в которых коррелировали выразительные позднесарматские обрядовые и этнографические признаки: курганы с ровиками, имеющими перемычку в южной части, подбойные могилы с камерой, выведенной под западную стенку, северная ориентировка умерших, обычай деформации черепа (Гугуев 1983; 2019: 92—94, 105—107). Постепенно собирались данные ещё об одной группе курганных и грунтовых захоронений второй половины II — первой половины III в. н.э., оставленной элитой Танаиса, вероятно, по преимуществу позднесарматской. В инвентаре и обряде таких могил черты боспорской и провинциально-римской культуры (грунтовый или курганный склеп, погребальные венки и изделия из золотой фольги, имитирующие металлические украшения, в том числе монетные индикации) органично сочетаются со степными (длинные и короткие мечи с портупеей, плети, луки «гуннского» типа со стрелами, сбруйные наборы сарматского облика15) (Безуглов, Ильяшенко 2016; Безуглов 2019). Параллельно изучались сарматские и аланские (центральнокавказские) элементы бытовой культуры горожан второй половины II — первой половины III в. н.э.: тамги на плитах и разнообразных бытовых предметах — керамике, бронзовых обкладках деревянных сосудов, зеркалах, костяных изделиях (Яценко 2001: 73—74; Гугуев 2017: 136; Kozlovskaya, Ilyashenko 2018: 173—183)16; лепные курильницы средне- и позднесарматского облика (Базилевич, Гугуев 2012: 159—160); аланская гончарная сероглиняная посуда (Гугуев 1997: 117—122, рис. 5: 3, 4, 6—12; Гугуев и др. 2007: 436—440, рис. 2—9). Исследователи выдвигали версии, касающиеся некоторых частных аспектов взаимоотношений Танаиса со степью во II — первой половине III в. н.э.: например, о возможном обслуживании номадами сухопутного торгового пути, ведущего из эмпория в устье Дона к аланским «протогородам» Центрального Предкавказья (Гугуев 1993: 123—124); о том, что похороненные в могильниках правобережья Нижнего Дона и Доно-Кагальницкого водораздела поздние сарматы, «могли иметь свободный доступ в город и даже входить в состав его социальной элиты, сохраняя при этом черты собственного кочевого жизненного уклада и чередуя своё пребывание в городе и в степи» (Безуглов и др. 2009: 114—115; Безуглов 2019: 50) и др.
Изучение некрополей меотских поселений показало, что во второй половине II — первой половине III в. н.э. в них распространяется тот же, что и в некрополе Танаиса, набор взаимосвязанных позднесарматских обрядовых, этнографических и антропологических
МАИАСП № 15. 2023
Танаисские сюжеты Сергея Всеволодовича Кулланды (памяти друга)
признаков, аланская сероглиняная керамика, другие степные особенности. Иными словами, стало очевидно, что в указанный период внутри всего нижнедонского ареала оседлости шли единые процессы межэтнического взаимодействия и седентаризации ираноязычных номадов (Безуглов, Гугуев 1988: 24—26; Гугуев 2017: 131—133).
В последние годы некоторые специалисты развивают идею Д.Б. Шелова о двух волнах сарматизации 17 . На мысль о ранней волне наводит уже сама география памятников I — первой половины II в. н.э., в том числе погребальных и поминальных комплексов среднесарматской знати, изобилующих античными вещами из Танаиса. Многие такие памятники сосредоточены на правом берегу Нижнего Дона и Доно-Кагальницком водоразделе в непосредственной близости (нескольких километрах) к Танаисскому некрополю и некрополям меотских городищ (Беспалый, Беспалая, Раев 2007; Беспалый, Лукьяшко 2008; 2018). Более того, иногда крупные степные курганные кладбища со среднесарматскими погребальными и поминальными сооружениями (могильники Царский и Кобяковский) практически сливаются с упомянутыми некрополями (Ильюков 1993: 199—206, рис. 1: 9 — 30, 2, 3; Прохорова, Гугуев: 1992). С другой стороны, некоторые из названных выше свидетельств присутствия иранцев зафиксированы в Танаисе с начала раннеримского периода. Из жилых/хозяйственных построек и захоронений I — первой половины II вв. н.э. происходят отдельные предметы с сарматскими тамгами (Книпович 1949: 55, рис. 13; Bottger 2003: 251—252, Abb. 12: 7 — 10; Гугуев, Науменко 2021: 541—542, 551, рис. 12: 2, 16: 1). В середине I в. в некрополе появляются погребения с наборами среднесарматских лепных курильниц, состоящими из крупного сосуда в форме соленоида и цилиндрической «стопки» меньшего размера (Гугуев 2017: 136). В мусорных слоях, образовавшихся в результате чистки города после событий середины II в. н.э., очень мало аланской сероглиняной керамики. Однако она сконцентрирована — пусть и не в таком значительном количестве, как в комплексах, погибших в середине III в. н.э. — в отдельных подвалах и помещениях, разрушенных при позднесарматском разгроме: к примеру, в Восточном подвале (Гугуев, Науменко 2021: 544—546, 548, 550, 552—553, рис. 14, 15, 16: 3, 4). Следовательно, в первой половине II в. н.э. аланская керамика уже использовалась в быту кем-то из горожан. До недавнего времени автор этих строк считал её импортом из Центрального Предкавказья (Гугуев и др. 2007: 434, 436—440, 442). Теперь есть основания полагать, что частично она могла изготавливаться в самом Танаисе, где в мусорных напластованиях римского времени были обнаружены (правда, в единичных экземплярах) полые керамические «подставки» — надёжные маркеры аланского гончарства (Гугуев и др. 2017: 53; Гугуев, Науменко 2021: 547—548). Судя по наличию аланской посуды в постройках, погибших при позднесарматском разгроме, её производство могло быть налажено в Танаисе несколько раньше этих событий, в пределах конца I — первой половины II в. н.э., поскольку так датируется формирование в Центральном Предкавказье аланской археологической культуры с её специфическим керамическим комплексом (Габуев, Малашев 2009: 148—153).
В I — первой половине II в. н.э. какое-то количество номадов, вероятно, проникало и на меотские поселения округи Танаиса, в грунтовых могильниках которых обнаружены вышеупомянутые среднесарматские лепные курильницы, аланская гончарная посуда, предметы с тамгообразными знаками (Гугуев 2017: 135—137, рис. 8, 9). На возможность пребывания сарматов в I — первой половине II в. н.э. на Кобяковском городище указывает также сходство черепов погребённых его некрополя со нижнедонскими ранне- и среднесарматскими (степными) краниологическими сериями (Батиева 2011: 81—82, 93). Кроме того, в последние два десятилетия на Подазовском и Крепостном городищах открыты датирующиеся на основании сопутствующего амфорного материала II в. н.э. следы аланского керамического производства, т.е. здесь обосновались гончары-аланы из Центрального Предкавказья (Гугуев и др. 2017: 52—53; Гугуев, Науменко 2021: 546—548).
МАИАСП № 15. 2023
Всё это позволяет допустить, что процесс сарматизации эмпория на Танаисе и окрестных меотских поселений, пик которого пришёлся на период от середины II в. н.э. до катастрофы 251 г. н.э., начался в I в. н.э. (Внуков 2007: 168—169; Гугуев 2017: 135—137; Гугуев 2019: 106; Гугуев, Науменко 2021: 548—551). И, таким образом, результаты выполненного С.В. Кулландой предварительного исследования одного из сегментов иранского ономастикона Танаиса в общих чертах согласуются с имеющимися в нашем распоряжении данными археологических источников.
Есть, впрочем, и определённые «нестыковки» в этой более-менее целостной картине. Так, загадку представляет собой полное отсутствие в курганных некрополях Танаиса и меотских поселений его округи квадратных ям I — первой половины II в. н.э. под индивидуальной насыпью, в которых костяк располагается по диагонали и ориентирован черепом в южный сектор18. Нет и обширных квадратных ям высшей среднесарматской знати, где аналогично ориентированный погребённый укладывался вдоль стенок в деревянном ящике (гробу). Для курганов с погребальными конструкциями второго типа характерен особым образом оформленный материковый выкид из могилы, а также «дары» на древнем горизонте или в специальных тайниках под выкидом: бронзовые котлы, импортная металлическая посуда, амфоры и сероглиняная керамика, предметы культа, вооружения, сбруя из драгоценных металлов (Безуглов, Гугуев 1988: 22—24). Выходит, что в I — первой половине II в. н.э. немногих(?) номадов, селившихся в Танаисе и на близлежащих меотских городищах, хоронили в грунтовых и курганных некрополях в соответствии с обрядовыми нормами, которые практиковались здесь коренным (несарматским) населением. В таких случаях на возможную сарматскую принадлежность погребённых указывают только сопровождающие их традиционные культовые и бытовые атрибуты: лепные курильницы степных типов, вещи с тамгами и т.п.
Ситуация кардинально изменилась после событий середины II в. н.э., когда поздние сарматы на целое столетие утвердили своё военно-политическое доминирование в нижнедонском очаге оседлости и боспорской культуры с центром в Танаисе19. По-видимому, именно возникновение многочисленной ираноязычной общины, представители которой заняли ключевые позиции в городской администрации, одновременно сосредоточив в своих руках значительные финансовые ресурсы, привело к отводу обширного участка на восточной периферии курганного
МАИАСП № 15. 2023
Танаисские сюжеты Сергея Всеволодовича Кулланды (памяти друга)
некрополя под погребально-поминальные комплексы сарматского населения эмпория. Однако самых знатных и состоятельных танаитов хоронили в земляных склепах «боспорского типа» в других местах — как правило, ближе к городским стенам (см. выше).
Очень интересна идея С.В. Кулланды о наличии в иранском ономастиконе Танаиса следов нескольких диалектов сарматского языка и возможной архаичности диалекта поздних (позднее пришедших в Европу) сарматов по сравнению с диалектом (диалектами?) ранних и средних. Будучи вскользь высказана серьёзным лингвистом и историком, она, разумеется, требует дальнейшей проверки на материалах Танаиса и тех северопонтийских античных городов, где в надписях первых вв. н.э. есть иранские имена. Если её удастся аргументировать, то, как мне представляется, возможная близость именно ранне- и среднесарматского (но не позднесарматского) диалекта (диалектов?) к осетинскому языку не противоречила бы археологическому материалу. В.Ю. Малашев убедительно доказал, что аланская археологическая культура Центрального Предкавказья складывалась на базе двух основных компонентов: а) культуры местного оседлого и кочевого населения II в. до н.э. — I в. н.э. (памятники типа Чегем-Манаскент), б) культуры среднесарматских кочевников-мигрантов. О возможном участии средних сарматов в сложении аланской культуры косвенно свидетельствуют два обстоятельства. Во-первых, во второй половине II в. н.э. она выглядит уже полностью оформленной (земляные городища, своеобразный керамический гончарный комплекс, обряд погребения в курганных катакомбах), а значит, её формирование происходило несколько раньше — в среднесарматский период, по всей вероятности, в конце I — первой половине II в. н.э. Во-вторых, отдельные среднесарматские памятники, например, курганный могильник Кобийский в Шелковском районе Чеченской Республики, Бударка 3 и Айгурский 2 на Ставрополье, заходят далеко на юг и расположены довольно близко к предгорьям, которые вскоре заселили аланы. Кроме того, аланская культура наследует некоторые существенные черты среднесарматской — обряд захоронения под индивидуальной насыпью, обведённой ровиком, небольшие ямки-тайники для оружия и конской упряжи внутри могилы или рядом с ней (на погребённой почве под выкидом)20, звериный стиль сбруйной гарнитуры (Малашев 2007: 494; 2010: 122—124; 2016: 10—12, 61, рис. 1—5; Габуев, Малашев 2009: 148—153; Габуев 2014: 9—16, 22—28, рис. 2—14, 24—32).
Аланский звериный стиль III—IV вв. н.э. (очень вероятно, что такие вещи со временем будут обнаружены и в комплексах II в.) отличается от среднесарматского схематичностью (сильной степенью упрощения) и «угловатостью» изображений, чем, на мой взгляд, напоминает стилистику кобанского прикладного искусства (Техов 1980: рис. 22; Доманский 1984: рис. 1, 3—5, 11—16, VI—VIII, илл. 2, 11—23, 51—54, 59, 60, 161—163; Мошинский 2010: 67—69, 71—79, 90—95, 108—110, 190—191, 209, 238, 239, 240—242, 244—250). Однако его образы (волк, ёж, хищная птица, фантастические крылатый волк, орлиноголовый грифон и дракон) и мотивы (свернувшийся в кольцо зверь, свернувшийся хищник, кусающий свою заднюю лапу, шествие зверей) соответствуют среднесарматским21. Реплики оригинальных «степных» произведений звериного стиля I — первой половины II в. н.э., изготавливаемые кавказскими мастерами, были востребованы местным населением. Всё это также может говорить об этническом родстве средних сарматов и аланов центральных областей Северного Кавказа (Малашев 2016: 61; Малашев, Дзуцев 2016: 172—177, рис. 3, 7: 1—4, 11: 1, 12: 1, 2, 14—22).
А вот влияние на кавказских аланов носителей классической позднесарматской культуры второй половины II — первой половины III в. н.э., по данным, которыми мы располагаем
МАИАСП № 15. 2023
сегодня, выглядит гораздо скромнее. В аланской культуре Центрального Предкавказья прослеживаются отдельные (без корреляции в одном погребальном комплексе) позднесарматские черты, но не специфические, а скорее, «эпохальные», присущие в указанный период многим культурам и культурным группам: обычай деформации черепа, уздечные наборы особой конструкции, некоторые типы украшений и бытовых предметов (Габуев, Малашев 2009: 149—150; Малашев, Дзуцев 2016: 171—172)22. По-видимому, взаимодействие поздних сарматов Подонья с аланами сводилось к прямым и опосредованным торговым контактам, а также к обслуживанию торгового пути, соединявшего эмпорий в устье Дона и городища Центрального Предкавказья, о чём свидетельствуют многочисленные находки импортной гончарной посуды кавказского производства в Танаисе и нижнедонских степных погребениях второй половины II — первой половины III в. н.э. (Гугуев, Глебов 2002: 92—93; Гугуев 1993; Гугуев и др. 2007; Гугуев и др. 2017). Такие контакты не привели к расселению сарматов поблизости аланских «протогородов», тогда как, к примеру, на Нижнем Дону в первые века н.э. кочевники занимали степи возле экономически значимых для них центров оседлости и торговли (см. выше). Более того, типичных позднесарматских памятников второй половины II — первой половины III в. н.э. (погребений воинов-всадников с характерным инвентарём и соответствующих женских могил) пока не выявлено на Ставропольской возвышенности и в равнинной зоне Центрального Предкавказья. Не исключено, что эта обширная территория играла роль «буфера» между нижнедонскими поздними сарматами и центральнокавказскими аланами, что, вероятно, указывает на не вполне мирные отношения. В середине III в. н.э. произошла масштабная аланская экспансия в Подонье и Волго-Донское междуречье (а потом и далее на запад), в результате которой оставшиеся там носители позднесарматской культуры были постепенно ассимилированы (Безуглов 2008: 285—292).
Публикуя письма и заметки Сергея Всеволодовича Кулланды, на редкость эрудированного, глубокого и проницательного исследователя, с которым мне посчастливилось дружить и плодотворно общаться долгие годы, выражаю надежду, что его безвременный уход из науки не означает забвения сложных, но весьма актуальных проблем, поставленных им на материале иранской ономастики Танаиса. Может быть, кто-то из историков и языковедов-иранистов заинтересуется этими проблемами и в перспективе предложит способы и варианты их решения.
МАИАСП Танаисские сюжеты Сергея Всеволодовича Кулланды 983 № 15. 2023 (памяти друга)
Приложение I.1
Из письма С.В. Кулланды
Дорогой Юра!
Посылаю тебе довольно отрывочные заметки относительно иранской ономастики Танаиса. Можешь их использовать по своему усмотрению. Может быть, тебе будет приятно знать, что ты оказал мне большую услугу, подвигнув заняться этим предметом, поскольку я выяснил для себя (и, смею надеяться, для науки) много нового и интересного насчёт скифского языка, до чего у меня без твоей просьбы и присланной тобой литературы просто руки не дошли бы. Одним словом, надеюсь, что польза будет обоюдной и мои заметки тебе сгодятся. Если тебе покажется, что там чего-то не хватает, напиши мне по той же электронной почте, и я допишу, что смогу. <…>
Серёжа
Приложение I.2
Заметка С.В. Кулланды (файл «sarm 1»)
Вывод о появлении в надписях Танаиса большого количества иранских имен только с середины II в. н.э., безусловно, справедлив. Вместе с тем, методика использования автором ономастических данных вызывает серьезные замечания. Так, он, вслед за Д.Б. Шеловым, пытается отделить собственно сарматские имена от иных иранских, но при этом допускает терминологическую подмену, делающее все рассуждение бессмысленным. Если у Шелова речь идет о разграничении внутри иранского ономастикона «сарматских» и «персидских» имен (см., напр., «Некоторые вопросы…», стр. 89), то Даньшин, видимо, под влиянием современных политических реалий, заменяет слово «персидские» на «иранские» (см. стр. 55, где отдельно высчитывается доля «сарматских» и «иранских» имен). Но понятия «иранский» и «персидский» в лингвистическом смысле не тождественны. Смысл идеи Шелова (к сожалению, в явном виде им не сформулированной) в том, что следует разграничивать западноиранские языки, к которым относится (древне)персидский, и восточноиранские, к которым относятся, в частности, скифский, сарматский, аланский и осетинский. Такое различие проводить можно и нужно. Проводить же различие между иранским и сарматским, как это делает Даньшин — то же, что проводить различие между славянским и русским или же, если использовать археологическую метафору, между сосудами и амфорами: это понятия разного таксономического уровня. Но основная проблема — не в терминологической путанице, хотя ее, разумеется, лучше было бы не допускать, а в том, что критерии, по которым Д.Б. Шелов (выдающийся исследователь истории и археологии Северного Причерноморья, но не иранист и не специалист по сравнительно-историческому языкознанию) пытался разграничить восточноиранские (в его терминологии «сарматские») и западноиранские (в его терминологии «персидские») элементы в ономастике Танаиса, изначально порочны. Скажем, он полагал, что если некое иранское слово зафиксировано в авестийском, но не представлено в современном осетинском, то оно не может быть сарматским. Суждение это с лингвистической точки зрения абсурдно. Если, скажем, в русском языке не сохранилось слово *корок («нога»), и для того, чтобы понять, что слово «каракатица» (возникшее под влиянием аканья из «корокатица») означает «многоножка», нужно привлечь болгарское крак («нога»), то из этого никоим образом не следует, что каракатица — слово не русское, а болгарское (напротив, соответствие болгарского неполногласия русскому полногласию исключает такую возможность). То же рассуждение
МАИАСП № 15. 2023
справедливо и для реконструкции значений сарматских слов при помощи авестийских (или любых других иранских) параллелей23. Единственным аргументом в подобных случаях может служить не наличие или отсутствие той или иной лексемы в том или ином иранском языке, а специфический фонетический облик соответствующего слова (ср. ниже об имени Ксартан [Ξάρθανος]). Поэтому утверждение, что «имя Φόδακος, не очень убедительно выводимое В.Ф. Миллером и В.И. Абаевым из осетинских корней…, находит себе точное соответствие в корнях авестийских…» (цит. соч., стр. 89), даже если оно справедливо, вовсе не исключает того, что имя это сарматское. Что же касается иных приводимых Д.Б. Шеловым примеров якобы персидских имен, то они либо не показательны, либо прямо противоречат его собственным выводам. Скажем, имена Арат, Фарнак, Питофарнак могут быть как западно-, так и восточноиранскими, так что нет никаких оснований считать их именно персидскими, а имя Ксартан, также объявленное «несомненно» персидским, быть таковым никак не может. а может быть только сармато-аланским, поскольку в нем имеется сугубо сармато-аланский переход θr>rθ, не встречающийся ни в древне-, ни в средне-, ни в новоперсидском, ни в так называемом «мидийском». Имя Ахемен (Ἀχαιμένης) в данном контексте вообще трудно считать иранским. Его иранская форма — Haxamani-, а Ахемен — традиционная греческая передача, так что мы, скорее всего, имеем дело с греческим именем, заимствованным из персидского (в среде малоазийских греков?) и ассимилированным. Наконец, даже если некое имя из Танаиса и демонстрирует фонетические черты, свойственные юго-западным иранским языкам, т.е. древне-, средне- и новоперсидскому, это само по себе ничего не доказывает, поскольку ряд слов с «юго-западной» фонетикой (в том числе и не зафиксированных в собственно персидском на территории Ирана) попал и в восточноиранский осетинский (то ли в результате древних междиалектных заимствований, то ли в результате заимствований из языка западноиранского населения Северного Причерноморья, ассимилированного скифами и/или сарматами). Как указывал Э.А. Грантовский, «на древнее и независимое от персидско-ахеменидского влияния бытование «юго-западных» форм в Юго-Восточной Европе указывают имена скифских царей в Северном Причерноморье VII — первой половины V вв. до н.э.: Σπαργαπείθης и Ἄριαπείθης (Геродот, IV, 76, 78; первый из них был прапрадедом современника Дария I и жил, следовательно, в первой половине или середине VII в. до н.э.)» (Ранняя история иранских племен Передней Азии, стр. 162) (в обоих случаях мы имеем во второй части имени рефлекс *paiśa- «вид», «обличье» с θ вместо s). «То же имя *Spargapaisa, уже в общеиранской форме, носил массагет Σπαργαπίσης (Геродот, I, 211, 213)» (Там же). К числу «юго-западных», resp. персидских (хотя в данном случае такое словоупотребление не вполне удачно, поскольку, как отмечалось выше, речь не идет о заимствовании непосредственно из древнеперсидского), возможно, относится и упоминаемое как Шеловым, так и Даньшиным имя Ардар (Ἄρδαρος), которое, тем не менее, прочно вошло в аланский и осетинский языки — ср. заимствования из аланского в венгерский и монгольский: зафиксированное с XII в. н.э. венгерское aladár «centurio cohortis praetoriae», употребительное и в качестве личного имени, и монгольское aldar «слава», зафиксированное в XIII в. как личное имя, а также современное осетинское ældar «господин», «князь» (Абаев, ИЭСОЯ, т. 1, стр. 126—128). Согласно Э.А. Грантовскому, «первоначальным значением этого слова, игравшего важную роль уже в скифо-сарматский период, должно быть «известный воин», «военный предводитель», откуда, как обычно, «знатный», «старшина», «вождь», «князь»24. Предлагавшиеся объяснения (В.И.
МАИАСП № 15. 2023
Танаисские сюжеты Сергея Всеволодовича Кулланды (памяти друга)
Абаев: от armadāra «рукодержец»; М.Н. Боголюбов и О.И. Смирнова: к авестийскому harqtar — «надзиратель», «страж») не представляются убедительными как по значению, так и по форме25. Термин в соответствии со своим значением мог бы быть разъяснен, если допустить, что он восходит к «юго-западной» форме» (Грантовский, цит. соч., стр. 215). Как уже отмечалось, для Северного Причерноморья наличие «юго-западных» форм вопреки обычной языковой норме зафиксировано уже для VII—V вв. до н.э, поэтому указанное имя — вероятно, из *ardāra, восходящего, в свою очередь, к общеиранскому *arźāra — можно связать с авестийским arqzah «бой», «сражение», «боевой строй», ср. arqzayant — «сражающийся». «В этом случае *ardāra либо имеет суффикс -ra/āra (…ср. авестийское имя Vanāra, очевидно, от van(a) — «побеждать»…), либо образовано с глаголом ar- в одном из его значений, наиболее вероятно «двигать(ся)», т.е. «двигающийся в сражении» или «двигающий бой»», ср. образованное от той же основы при помощи сходного по значению глагольного корня šyāv- авестийское arqzō.šūta «выводимый на бой», «ведомый в бой» (Там же). Так или иначе, учитывая глубокую укорененность соответствующего слова (как в качестве имени нарицательного, так и в качестве имени собственного) в сармато-алано-осетинской среде, имя Ардар тоже трудно считать «несарматским».
Из всего сказанного ясно, что подсчеты процентного соотношения «сарматских» и «несарматских» имен, основанные на описанных выше критериях, мягко говоря, не вполне достоверны.
Тем не менее, при всей скудости скифского и сарматского языкового материала, в ряде случаев мы в состоянии отделить, скажем, скифские имена от сарматских или раннесарматские — от позднесарматских. Так, например, уже отмечалось, что греческое окончание –ης передает иранское тематическое окончание на a-, а греческое окончание -ος — более позднее иранское окончание на согласный, после отпадения конечного гласного. Как писал В.И. Абаев, «при всех возможных ошибках этот критерий пригоден для общей ориентировки в материале… Подавляющее большинство имен имеет окончание –ος, в особенности имена, относящиеся к I—III вв. Это значит, что к этому времени тематические гласные в скифском [В.И. Абаев употреблял термин «скифский» недифференцированно по отношению к скифскому и сарматскому — С.К.] отпали… Напротив, имена, сохраненные в самых ранних источниках (Геродот, древнейшие надписи и др.), носят признаки наличия тематических гласных. Если мы сравним Σαιταφάρνης и, скажем, Χόφαρνος, то первая форма… представляется более архаичной. Так оно в действительности и оказывается. Σαιταφάρνης встречается в надписи из Ольвии III в. до н.э., Χόφαρνος — в надписи из Танаиды III в. н.э.» (Абаев 1979 (1949), стр. 337—338).
Показателями более поздней стадии развития языка являются и переходы p>f (там же, стр. 332—333), t>d, k>g (там же, стр. 330—331). Поэтому имя Питофарнак (Πιτοφαρνάκης) древнее, чем Пид (Πίδος), а Пид — чем Фид (Φίδας) (все они восходят к *pitā «отец»); Пуртай (Πουρθάος) или Пуртак (Πουρθάκης) древнее, чем Фурт (Φούρτας) (все образованы от puθra «сын»).
Кроме того, в более поздних (сарматских?) надписях (именах?) имели место метатезы согласных, характерные и для современного осетинского. Это прежде всего метатезы с участием r, который в группе из двух согласных переходит со второго места на первое: θr>rθ и т.п. (например, если брать имена с элементом xšaθra — «власть» или производными от него, то более древними [или представляющими иной диалект, скажем, скифский] формами будут Сатрак (Σατράκης, у Арриана) и Сатробат (Σατροβάτης, Фанагория), а более поздней [или именно сарматской, в отличие от скифской] — Ксартан [Ξαρθάνος]) (В.И. Абаев, стр. 333), а также переход sp>ps>fs: так, из имен Аспак (Ἀσπακος) и Апсах (Ἀψαχος) (от aspa —
МАИАСП № 15. 2023
«конь»; встречаются только в Танаисе, притом даже в составе одной надписи, КБН 1278, 220 г.н.э.) более древним по происхождению является первое26.
Из встречающихся в Танаисе сарматских имен особый интерес представляет имя Омпсалак (Ὀμψάλακος), неоднократно встречающееся в различных надписях, в том числе в более правильной форме Ампсалак на серебряном сосуде из Косики (см. Ю.Г. Виноградов, Очерки военно-политической истории сарматов в I в. н.э.), никакой иранской этимологии которого до сих пор предложено не было. В нем представлен, с одной стороны, поздний (хотя и не являющийся последней из зафиксированных к настоящему времени стадий фонетического развития этой консонантной группы) переход sp>ps, а с другой стороны — интервокальный -l-, не встречающийся в большинстве древнеиранских языков; в сарматоаланском l возник из более раннего r перед i или y: Φλίανος из Fryāna, Ἀλανοί из aryana и т.п. Таким образом, это имя вполне регулярно восходит к более раннему *Ham-sparyaka «совместно топчущий, попирающий ногой (врагов)» (ср. осетинское æfsæryn «id.»)27.
Приложение I.3
Заметка С.В. Кулланды (файл «sarm 2»)
Итак, об именах из надписи 155 года. Еще раз об имени Фид. Оно явно позднее, поскольку, как видно из предыдущих заметок, в нем отражены переходы p>f и t>d, а также отпадение конечного гласного, о чем свидетельствует окончание -ος. Имя Амарфаст (Ἀμαρθάστος) В.И. Абаев объяснял (с вопросительным знаком) как «Избранный», связывая с осетинским глаголом ærtasun «отбирать» с приставкой ham-, обозначающей совместность. Имя Атарб (Ἀτάρβας), которое Абаев не объясняет, я бы предложил трактовать как производное от иранского глагола *tarp- (осетинское tælfun) — «шевелиться, трепетать» с a-привативным, т.е «недрожащий, не трепещущий». Оно по форме не слишком раннее, но и не слишком позднее. Имя Ζάβαργος, которое у Абаева тоже не объяснено, можно, на мой взгляд, трактовать (с вопросительным знаком) при помощи осетинского caw «происшествие, случай» и *ārgā (осетинское arğaun) «благословлять» — «Счастливый, благословенный случай» (?). Выглядит оно тоже достаточно поздним.
Еще несколько замечаний к тексту Даньшина. Неверно его утверждение, что в надписи 104 г. (КБН 1259) нет ни одного сарматского имени. Там есть имя Маст (Μαστοὰς), которое хорошо объясняется из иранского (в т.ч. из осетинского) как причастие прошедшего времени от глагола mad — «опьяняться, возбуждаться, распаляться» — «Ярый, Распаленный» (Абаев, 1979, стр. 295). Кроме того, там имеется имя Дад (Δάδος), которое вполне может быть сарматским (из dāta — «Данный», причастие прошедшего времени от dā-). Может, конечно, и не быть — с короткими именами всегда труднее разобраться, но, по крайней мере, утверждать безоговорочно, что имя это не сарматское, я бы не стал. Об имени Ардар из надписи 123 года я уже писал, но повторюсь: хотя оно, возможно, заимствовано из западноиранских диалектов досарматского (и доскифского) населения Северного Причерноморья (хотя это и не обязательно — возможно диалектное смешение на праязыковом уровне), оно прочно укоренилось в сармато-алано-скифском (см. предыдущие заметки с этимологией Грантовского), так что его следует считать сарматским.
МАИАСП № 15. 2023
Танаисские сюжеты Сергея Всеволодовича Кулланды (памяти друга)
Кроме того, следующие сарматские (или, во всяком случае, иранские) имена есть в танаисских надписях, палеографически датируемых первой половиной II в. н.э.: КБН 1263 — Ардар, Дад, Иодас (Ἰοδασας) (объясняется из осетинского od «душа» + определенный артикль i — Абаев, 1979, стр. 297), Фади[нам] (Φαδί[ναμος] — из иранского pati-nāma; это форма не очень поздняя, позже было бы Φαζίναμος); КБН 1264 — ᾿Οαροζβάλακος «Любящий дружину» или «Любимый дружиной» (ср. осет. warzun «любить» и bal «дружина»; так уже у Миллера — это имя, похоже, позднее), [А]рдариск (см. выше об Ардаре) и Фарнак (Φαρνάκης) — это имя раннее, судя по окончанию; КБН 1266 — Маст, Ардар, Хофарн (это имя довольно позднее, см. в предыдущих заметках в цитатах из Абаева); КБН 1295 — Фарнак (раннее, с ранним окончанием, от которого сохранилась «эта» — η), Азий (Ἀζίας — «Истинный», ср. осетинское æcæg — Абаев, 1979, стр. 291); КБН 1298 — Арья… (далее повреждено, но этого достаточно, хотя буквы повреждены, но читаются). Я не касаюсь имен из надписей, палеографически относимых широко ко II в. н.э., беру только первую половину.
Приложение I.4
Из письма Ю.К. Гугуева
Здравствуй, Сергей!
Я в который раз перечитываю Твои заметки, статьи Д.Б. Шелова и Д.И. Даньшина и пока не смог свести концы с концами, т.е. археологию и танаисскую ономастику.
В середине II в. н.э. Танаис был разгромлен, о чём свидетельствует ряд городских построек, погибших от пожара, и некоторые другие факты. В этих постройках найдены боспорские монеты, датирующие пожар временем между 136 и 170 гг. н.э. Разгромили Танаис продвинувшиеся из Средней Азии на правобережье Волги позднесарматские племена. Позднесарматская археологическая культура отлична от предшествующих, и, не исключено, что её носители как-то отличались от ранних и средних сарматов также по языку.
Сразу после разгрома город был восстановлен, и совершенно очевидно, что часть мигрантов и подчинённых ими средних сарматов влилась в состав его населения. Даже если отвлечься от надписей, на это указывает буквально всё — и погребальный обряд, и материальная культура.
Принципиален вопрос, могут ли танаисские надписи, год изготовления которых нередко известен, как-то сузить определяемый нумизматикой 35-летний интервал, в течение которого город был разгромлен. Его решение позволило бы прояснить нижнюю хронологическую границу позднесарматских памятников западнее Волги. Кто пишет о середине, кто о второй половине II в. н.э. К сожалению, из вещей, обнаруживаемых в могилах, нельзя извлечь более узких дат.
Если я Тебя верно понял, надпись 155 г. (КБН 1260) содержит имена, которые в принципе могли быть сарматскими. Однако в надписях 104 г. (КБН 1259) и 123 г. (КБН 1265) есть сходные имена. Кроме того, они присутствуют в надписях, палеографически относимых к первой половине II в. н.э. (КБН 1263, 1264, 1266, 1295, 1298) часть которых могла быть высечена и до 136 г. Таким образом, на протяжении всей первой половины II в. н.э., вопреки мнению Д.И. Даньшина («Танаиты…», с. 63), в ономастике Танаиса, кажется, не происходило никаких изменений, кроме плавного роста числа иранских имён.
Так думал и Д.Б. Шелов, при этом полагая, что практически все танаисские иранские имена из надписей, высеченных до конца правления Евпатора (170 г. н.э.), являются «персидскими» и только в надписи 188 г. н.э. (КБН 1242) впервые появляются сарматские («Некоторые вопросы…», с. 84—85). В своих заметках Ты убедительно доказываешь ложность критериев, избранных Д.Б. Шеловым для разграничения «персидских» (надо говорить – западноиранских) и сарматских (восточноиранских) имён. Тем не менее между именами из надписей до 188 г. и после этой даты всё же есть определённая разница. Заключается она в том, что вторые — почти все специфически танаисские, во всяком случае, для промежутка от 188 г. до середины III в. н.э., а первые (кроме Амарфаст из надписи 155 г.) встречаются и в других городах Боспора (Шелов Д.Б. «Некоторые вопросы…», с. 85—90). Может быть, всё-таки эти две группы иранских имён Танаиса как-то различимы и фонетически?
МАИАСП № 15. 2023
Другими словами, я пытаюсь разобраться, как датируется разгром: в интервале 136—155 гг. или, скорее, в интервале 155—170 гг.? <…>
Или же нам остаётся признать, что на нынешнем этапе исследования ономастика никак не проясняет данный вопрос, и поэтому надо остановиться на той дате, которая вырисовывается из анализа нумизматического материала? <…>
Юра
Приложение I.5
Из письма С.В. Кулланды
Дорогой Юра!
Скорее всего, ты прав: ономастика не позволяет утверждать, что разгром Танаиса произошел до 155 года. К сожалению, у меня не получается выделить специфические фонетические особенности имен, появляющихся после 188 года и встречающихся только в Танаисе. Более того, в поздних надписях нередко соседствуют ранняя и поздняя форма одного и того же имени: Фадинам и Фадзинам, Аспак и Апсах (объяснить-то это легко: как ты сам пишешь, среди горожан после восстановления Танаиса могли быть и поздние, и средние сарматы, но вот чей диалект был фонетически более поздним — поди разберись). В надписи 155 года (КБН 1260) упоминается имя Омпсалак, которое неоднократно встречается и в надписях, палеографически датируемых 1-й половиной II в. н.э. Судя по выкладкам Виноградова, то же имя в форме Ампсалак было распространено в сарматской среде в первой половине I в. н.э. (сосуд из Косики) — а в нем наблюдается поздний переход sp>ps. Теоретически вполне возможно, что диалект поздних сарматов был фонетически более архаичным, чем ранних и средних (поскольку поздние-то они, как я понимаю, только по времени появления в Европе) — тогда было бы понятно, почему среди поздних имен такие архаичные, как Байорасп и пр., а среди средних — такие более близкие к позднейшему осетинскому, как Омпсалак, но утверждать что-то категорично невозможно, поскольку в ранних танаиссских надписях иранских имен немного и среди них практически нет таких, которые бы фонетически хорошо датировались.
Извини, что не могу сказать ничего более определенного — материал не позволяет. <…>
Сережа
МАИАСП № 15. 2023
Танаисские сюжеты Сергея Всеволодовича Кулланды (памяти друга)
Список литературы Танаисские сюжеты Сергея Всеволодовича Кулланды (памяти друга)
- Абаев В.И. 1958. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1. А—К. Москва; Ленинград: АН СССР.
- Абаев В.И. 1979. Скифо-сарматские наречия. В: Расторгуева В.С. (отв. ред.). Основы иранского языкознания. Т. 1. Древнеиранские языки. Москва: Наука, 272—364.
- Арсеньева Т.М., Безуглов С.И., Толочко И.В. 2001. Некрополь Танаиса. Раскопки 1981—1995 гг. Москва: Палеограф.
- Арсеньева Т.М., Науменко С.А. 2004. Новые данные о фортификации Танаиса. ДБ 7, 29—73.
- Базилевич Л.О., Гугуев Ю.К. 2012. О средне- и позднесарматском компонентах в составе населения Танаиса в середине II — первой половине III в. н.э. (по материалам лепных курильниц сарматских типов). В: Гаджиев М.С. (ред.). Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: Исследования и интерпретации. XXVII Крупновские чтения. Материалы Международной конференции 23—28 апреля 2012 г. Махачкала: Мавраев, 159—161.
- Батиева Е.Ф. 2011. Население Нижнего Дона в IX в. до н.э. — IV в. н.э. (палеоантропологическое исследование). Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН.
- Башарин П.В., Захаров А.О. 2021. Сергей Всеволодович Кулланда (23.08.1954 — 30.11.2020). Вестник РГГУ: Литературоведение. Языкознание. Культурология 2.2, 264—273.
- Безуглов С.И. 2001. Денежное обращение Танаиса (III в. до н.э. — V в. н.э.). Дисс. ... канд. ист. наук. Москва: ИА РАН.
- Безуглов С.И. 2008. Курганные катакомбные погребения позднеримской эпохи в нижнедонских степях. В: Мошкова М.Г. (отв. ред.). Проблемы современной археологии: сборник памяти Владимира Александровича Башилова. Москва: Таус, 284—301 (МИАР 10).
- Безуглов С.И. 2010. Позднесарматская культура и Нижний Дон (современное состояние проблемы). В: Скрипкин А.С. (отв. ред.). Становление и развитие позднесарматской культуры (по археологическим и естественнонаучным данным). Материалы семинара Центра изучения истории и культуры сарматов. Вып. III. Волгоград: ВолГУ, 93—116.
- Безуглов С.И. 2019. Степь и Танаис во II—III вв. н.э. Крым в сарматскую эпоху (II в. до н.э. — IV в. н.э.) V. Материалы XМеждународной научной конференции «Проблемы сарматской археологии и истории», 47—52.
- Безуглов С.И., Глебов В.П., Парусимов И.Н. 2009. Позднесарматские погребения в устье Дона (курганный могильник Валовый I). Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфическая фирма «Медиа-Полис».
- Безуглов С.И., Гугуев В.К. 1988. Меоты и сарматы на Нижнем Дону в I—III вв. н.э. (структура и эволюция погребального обряда). В: Максименко В.Е. (отв. ред.). Проблемы сарматской археологии и истории (Тезисы докладов конференции). Азов: ИА АН СССР, 19—27.
- Безуглов С.И., Ильяшенко С.М. 2016. Социальная элита Танаиса во II—III вв. н.э. (культурноисторический облик). В: Зуев В.Ю., Хршановский В.А. (ред.-сост.). Элита Боспора и боспорская элитарная культура. Материалы международного круглого стола (Санкт-Петербург, 22—25 ноября 2016 г.). Санкт-Петербург: ПАЛЛАЦО, 181—186.
- Беспалый Е.И., Беспалая Н.Е., Раев Б.А. 2007. Древнее население Нижнего Дона. Курганный могильник «Валовый 1». Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН (Материалы и исследования по археологии Юга России 2).
- Беспалый Е.И., Лукьяшко С.И. 2008. Древнее население междуречья Дона и Кагальника. Т. 1. Курганный могильник у с. Высочино. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН (Материалы и исследования по археологии Юга России 1).
- Беспалый Е.И., Лукьяшко С.И. 2018. Древнее население междуречья Дона и Кагальника. Т. 2. Курганный могильник у с. Новоалександровка. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН (Материалы и исследования по археологии Юга России 1).
- Боголюбов М.А., Смирнова О.И. 1963. Согдийские документы с горы Муг. Хозяйственные документы. Чтение, перевод и комментарии. Вып. III. Москва: Наука.
- Внуков С.Ю. 2007. Время и политические последствия появления племён позднесарматской культуры в Причерноморье. ВДИ 4 (263), 163—177.
- Габуев Т.А. 2014. Аланские княжеские курганы V в. н.э. у села Брут в Северной Осетии. Владикавказ: Издательско-полиграфическое предприятие им. В.А. Гассиева.
- Габуев Т.А., Малашев В.Ю. 2009. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. Москва: Таус.
- Глебов В.П., Толочко И.В. 2016. Женские погребения с оружием на нижнем Дону в эпоху позднего эллинизма: Танаис и сарматы. В: Лукьяшко С.И. (отв. ред.). Античная цивилизация и варварский мир Понто-Каспийского региона: материалы Всероссийской научн. конф. с международным участием, посвящённой 70-летнему юбилею Б.А. Раева (Кагальник, 20-21 октября 2016 г.). Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 44—84.
- Грантовский Э.А. 1970. Ранняя история иранских племен Передней Азии. Москва: Наука.
- Гугуев В.К. 1983. Новые подкурганные захоронения в Танаисе и их этническая принадлежность. В: Шелов Д.Б., Казакова Л.М. (ред.). Проблемы хронологии археологических памятников степной зоны Северного Кавказа. Ростов-на-Дону: РГУ, 77—79.
- Гугуев В.К. 2017. Структура ритуала некрополей донских меотов (о роли сарматов в формировании населения городищ). Вестник Танаиса 4, 128—148.
- Гугуев В.К. 2019. Курганы на восточном участке некрополя Танаиса. Вестник Танаиса 5 (1), 92—123.
- Гугуев Ю.К. 1993. Центральнокавказская керамика в Танаисе во II — первой половине III в. н.э. (к постановке проблемы). Вестник Танаиса 1, 114—139.
- Гугуев Ю.К., Глебов В.П. 2002. Рецензия. И.В. Сергацков. Сарматские курганы на Иловле. Донская археология 1—2, 91—107.
- Гугуев и др. 2007: Гугуев Ю.К., Ильяшенко С.М., Казакова Л.М. 2007. О возможности этнической и социальной идентификации владельца усадьбы середины III в. н.э. в Танаисе. В: Козенкова В.И., Малашев В.Ю. (ред.). Северный Кавказ и мир кочевников в раннем железном веке: сб. памяти М.П. Абрамовой. Москва: Таус, 432—457 (МИАР 8).
- Гугуев и др. 2017: Гугуев Ю.К., Малашев В.Ю., Рылов В.Г. 2017. Керамический импорт из Центрального Предкавказья в Танаисе в середине III в. н. э. (по результатам минералого-петрографических исследований). НАВ 16 (1), 45—61.
- Гугуев Ю.К., Науменко С.А. 2021. Подвал II в. н.э. в районе городской площади Танаиса (раскоп XIX). МИАСП 13, 535—577.
- Даньшин Д.И. 1990. Танаис и танаисцы II—III вв. н.э. КСИА 197, 51—56.
- Доманский Я.В. 1984. Древняя художественная бронза Кавказа в собрании Государственного Эрмитажа. Москва: Искусство.
- Завойкина Н.В. 2004. Тavasiдш в истории Боспорского царства. ДБ 7, 163—198.
- Завойкина Н.В. 2013. Боспорские фиасы: между полисом и монархией. Москва: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке.
- Иванчик А.И. 2008. Три надписи фиасов эллинистического времени из Танаиса (Новые данные о греко-иранском взаимодействии в Танаисе дополемоновской эпохи). ВДИ 2 (265), 57—72.
- Иванчик А.И., Ильяшенко С.М. 2018. Новые надписи из Танаиса. ВДИ 3 (78), 693—710.
- Ильюков Л.С. 1993. Сарматские курганы окрестностей Танаиса (могильник «Царский»). Вестник Танаиса 1, 198—214.
- Ильяшенко С.М. 2013: Южные ворота Танаиса. Археологические записки 8. Ростов-на-Дону: Донское археологическое общество, 159—177.
- КБН 1965: Струве В.В. (отв. ред.). Корпус боспорских надписей. Москва; Ленинград: Наука.
- Книпович Т.Н. 1949. Танаис: Историко-археологическое исследование. Москва; Ленинград: АН СССР.
- Коробов Д.С., Малашев В.Ю. 2023. Новые исследования Бесланского курганного катакомбного могильника. НАВ 23 (1) (в печати).
- Кулланда С.В. 2005. Еще раз о скифском языке. Orientalia et Classica. Труды Института восточных культур и античности РГГУ. Вып. VI. Аспекты компаративистики. № 1, 215—225.
- Кулланда С.В. 2006. Lingua Scythica ad usum historici. В: Петренко В.Г., Яблонский Л.Т. (отв. ред.). Древности скифской эпохи. Москва: ИА РАН, 194—209 (МИАР 7).
- Кулланда С.В. 2011а. Скифы: язык и этнос. Вестник РГГУ: Востоковедение. Африканистика 2 (64), 9—46.
- Кулланда С.В. 2011б. Уроки скифского. Вестник РГГУ: Филологические науки. Языкознание. Вопросы языкового родства 5 (67), 48—68.
- Кулланда С.В. 2016. Скифы: язык и этногенез. Москва: Университет Дмитрия Пожарского.
- Кулланда С.В., Раевский Д.С. 2004. Эминак в ряду владык Скифии. ВДИ 1 (248), 79—95.
- Малашев В.Ю. 2007. Культурная ситуация в центральных районах Северного Кавказа во II—IV вв. н.э. В: Бектимирова Н.Н. (отв. ред.). Три четверти века. Д.В. Деопику — друзья и ученики. Москва: Памятники исторической мысли, 487—501.
- Малашев В.Ю. 2010. Центральные районы Северного Кавказа в позднесарматское время. В: Скрипкин А.С. (отв. ред.). Становление и развитие позднесарматской культуры (по археологическим и естественнонаучным данным). Материалы семинара Центра изучения истории и культуры сарматов. Вып. III. Волгоград: ВолГУ, 117—142.
- Малашев В.Ю. 2016. Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции в курганных могильниках Северо-Западного Кавказа второй половины II — середины V в. н.э. Москва: ИА РАН.
- Малашев 2020: Архив ИА РАН. R—1. № 64940—64949.
- Малашев В.Ю. 2020. Отчёт об охранно-спасательных раскопках могильника «Братские 1-е курганы» в зоне строительства магистрального газопровода «Моздок—Грозный» в Надтеречном районе Чеченской Республики в 2018 г. Т. 2.7.
- Малашев В.Ю., Дзуцев Ф.С. 2016. Парадные сбруйные наборы III в. н.э. из Бесланского могильника и проблема сложения аланской культуры Северного Кавказа. В: Малашев В.Ю. Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции в курганных могильниках Северо-Западного Кавказа второй половины II — середины Vв. н.э. Москва: ИА РАН, 160—202.
- Малашев В.Ю., Мошкова М.Г. 2010. Происхождение позднесарматской культуры (к постановке проблемы). Материалы семинара центра изучения истории и культуры сарматов. Вып. III. Становление и развитие позднесарматской культуры, 37—56.
- Прохорова Т.А., Гугуев В.К. 1992. Богатое сарматское погребение в кургане 10 Кобяковского могильника. СА 1, 142—161.
- Сергацков И.В. 2000. Сарматские курганы на Иловле. Волгоград: ВолГУ.
- Симоненко А.В. 2001. Европейские аланы и аланы-танаиты в Северном Причерноморье. РА 4, 77—91.
- Техов Б.В. 1980. Скифы и Центральный Кавказ в VII—VI вв. до н.э. (по материалам Тлийского могильника). Москва: Наука.
- Шелов Д.Б. 1961. Некрополь Танаиса (раскопки 1955—1958 гг.). Москва: Наука (МИА 98).
- Шелов Д.Б. 1970. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. Москва: Наука.
- Шелов Д.Б. 1972. Танаис и Нижний Дон в III—I вв. до н.э. Москва: Наука.
- Шелов Д.Б. 1974. Некоторые вопросы этнической истории Приазовья II—III вв. н.э. по данным танаисской ономастики. ВДИ 1 (127), 80—93.
- Яйленко В.П. 2010. Тысячелетний боспорский рейх. История и эпиграфика Боспора VI в. до н.э. — V в. н.э. Москва: Гриф и К.
- Яценко С.А. 2001. Знаки-тамги ираноязычных народов древности и раннего средневековья. Москва: Восточная литература.
- Bezuglov S.I. 1999. Die Münzfunde aus den Ausgrabungen der deutsch-russischen Expedition in Tanais 1993—1996. Eurasia Antiqua 4, 425—450.
- Böttger B. 2003. Bericht uber die gemeinsamen russisch-deutschen Archaologingruppe in Tanais im Abschnitt XIX durchgefurte 8. Grabungskampagne im Jahr 2000. Eurasia Antiqua 9, 237—279.
- Kullanda S.V. 2006. The Scythian language revisited. Eurasia Scythica. History, Culture & Languages of Ancient Iranian Nomads of Eurasia 1 (1), 74—81.
- Kozlovskaya V., Ilyashenko S.M. 2018. Tamgas and tamga-like signs from Tanais. In: Keil W.E., Kiyanrad S., Theis Ch., Willer L. (eds.). Zeichentragende Artefakte Im Sakralen Raum: Zwischen Präsenz Und UnSichtbarkeit. Berlin; München; Boston: De Gruyter, 167—197 (Materiale Textkulturen 20).