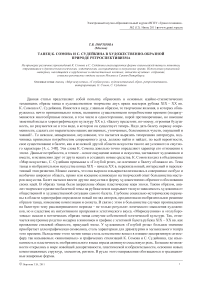Танец К. Сомова и С. Судейкина в художественно-образной природе ретроспективизма
Автор: Портнова Татьяна Васильевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 2 (12), 2011 года.
Бесплатный доступ
Анализируются формы взаимосвязей танца и живописи на примерах различных произведений, отразившихся в духовно-психологических, эстетических, ассоциативных и визуальных гранях. Использован уникальный материал, находящийся в зарубежных и отечественных частных, отчасти музейных собраниях, а также рукописные отделы музеев Москвы и С. Петербурга.
Танец, "мир искусства", "голубая роза", художественный образ, интерпретация, с. судейкин, ретроспективизм, к. сомов
Короткий адрес: https://sciup.org/14821633
IDR: 14821633
Текст научной статьи Танец К. Сомова и С. Судейкина в художественно-образной природе ретроспективизма
Данная статья представляет собой попытку обрисовать в основных идейно-стилистических тенденциях образы танца в художественном творчестве двух ярких мастеров рубежа XIX – XX вв. К. Сомова и С. Судейкина. Имеются в виду, главным образом, те творческие явления, в которых обнаружилось нечто принципиально новое, вызванное существенными потребностями времени (подразумеваются многообразные поиски, в том числе и односторонние, порой противоречивые, но внесшие заметный вклад в хореографическую культуру XX в.). «Балету предстоит, по-моему, огромная будущность, но разумеется не в том виде, в котором он существует теперь. Надо дать балету окраску современности, сделать его выразителем наших жизненных, утонченных, болезненных чувств, ощущений и чаяний!.. То неясное, невыразимое, неуловимое, что пытается выразить теперешняя литература, подчиняясь кризисным потребностям современного духа, должно найти и найдет, по всей вероятности, свое существование в балете, как и во всякой другой области искусства такого же условного и смутного характера» [4, с. 548]. Эти слова К. Сомова довольно точно определяют характер его отношения к эпохе. Данные потребности, а точнее – новое ощущение жизни и искусства, заставляют художников и вместе, и независимо друг от друга искать и создавать новые средства. К. Сомов входил в объединение «Мир искусства», С. Судейкин примыкал к «Голубой розе», но влечение к балету сближало их. Тема танца в изобразительном искусстве конца XIX – начала XX в. пережила новый, интересный и перспективный этап развития. Можно сказать, что она выросла и выкристаллизовалась в совершенно особую и необычно широкую область, прямо или косвенно влияющую на творческий опыт большинства мастеров искусства. Балет пытался ввести другие искусства в форму художественно-образного обоснования своих идей. В образах танца были закреплены общие пластические идеи эпохи. Таким образом, анализ творческого развития балетной темы на рубеже веков вскрывает тесную зависимость художника от общественной и художественной ситуации самого балета. Глубокие социально-исторические перемены в области хореографии определили новый взгляд авторов, продиктовали изобразительное решение образов танца, изменение композиции и сюжета. В связи с этим в большинстве случаев произведения на балетную тему рассматриваемого периода – не только результат логического мышления художников, но и следствие их интуитивного прозрения и эстетического вкуса. «Мирискусники» и «голуборо-зовцы» искали в поэтических образах танца созвучие собственной эстетической культуре. Так, отмечается внутреннее родство модерна в живописи и графике с эстетикой балета рубежа XIX – XX вв. как проявление стилевой общности, присущей эпохе. У художников «Голубой розы» большое значение приобретает аллеографическая символика, столь характерная для драматургии и музыкального театра того времени. Вследствие этого мотив танца столь естественно вошел в изящно-декоративную атмосферу так называемых «живописных» и графических стилизаций К. Сомова и С. Судейкина, где изысканность и пластичность изобразительного языка играла активную смысловую роль. Большие возможности открылись в мире новейшей декоративности, пластической изобразительности, освоения новых композиционных структур, элементов, ритмов. В русле этого направления обогащаются и традиционные жанровые формы.
Тщательное изучение изданий о художниках, газетных и журнальных статей, отзывов, каталогов выставок из музейных зарубежных и отечественных собраний, а также непосредственное знакомство с произведениями К. Сомова и С. Судейкина показывают самобытность их поисков в интерпретации темы танца. Пристрастие к театральности явно ощущается в работах этих художников. «Первое же сильное театральное впечатление Сомова связано с балетом – трехлетним ребенком он увидел забытый ныне исторический балет “Камарго”, представленный в тяжелом “Лукеизном” убранстве, и воображение его было поражено надолго», – свидетельствует С. Эрнст [6, с. 7].
В публикациях о С. Судейкине авторы неоднократно подчеркивают: «Судейкин мыслит театральными образами, театр всецело овладел его художественным миросозерцанием» [5, с. 13]; «Балет и танец с самого начала творческого пути художника явились стихией, пронизывающей всю плоть его искусства. Пристрастие к балету, к танцу были еще одной эстетической утопией, захватившей Судей-кина, как и многих современников, видевших в раскрепощении тела, в гармонии его форм, в красоте и раскованности его движений условие свободы» [2, с. 69].
В творчестве обоих художников работы с балетным сюжетом можно выделить в отдельные, не совсем аналогичные группы. У Сомова – графические рисунки, театрализованные мотивы с явными элементами пластических категорий танца и станковые картины с изображением «Русского балета». У Судейкина – живописные произведения на тему «Балет», а также декорации и костюмы к балетным постановкам. Попытаемся отыскать общее и особенное в образах танца, рассматривая творчество этих мастеров параллельно. Сначала обратимся к зарисовкам К. Сомова «Репетиция балерины» (1909, ГРМ), «Танцовщица А. Павлова в балете “Арлекинада”» (1909, ГРМ), «Танцовщица. Набросок для костюма А. Павловой» (ГРМ) и др., которые по своему характеру перекликаются с набросками С. Судейкина (эскизом костюма «Т. Карсавина в Саломее» (ГЦТМ)), хотя и несут в себе индивидуальные художественные задачи.
Трудно установить, является ли набросок К. Сомова «Репетиция балерины» зарисовкой конкретного балета, но бесспорно то, что он выполнен с натуры. Центральную часть листа занимает полуфигура танцовщицы, где запечатлен определенный жест рук; чуть ниже он повторен вновь в более мелком размере. По краям листа в различных рисунках изображены одиночные и дуэтные фигурки в пачках. Быстрые движения пера в разнообразных ракурсах: спереди, сверху, сбоку запечатлевают целую серию балетных поз и движений от простейшего па до партнерских поддержек. В этом смысле набросок К. Сомова близок к балетмейстерским зарисовкам, напоминает творческую работу хореографа.
Другие два наброска – «Танцовщица А. Павлова в балете “Арлекинада”» и «Танцовщица. Набросок для костюма А. Павловой», – хотя и являются эскизами костюмов, решают задачи, свойственные самостоятельным произведениям. Хореография состоит из двигательных актов, которые характеризуются весьма сложными анатомо-физиологическими функциями и подчиняются законам механики.
В рисунке «Танцовщица. Набросок для костюма А.Павловой» наш взгляд останавливает прежде всего не образ костюма (он почти не разработан), а четвертая позиция ног, живое движение балерины. На одном листе в четырех фигурах показаны не костюмы, а артисты, владеющие своим телом в совершенстве. Балетная одежда выступает здесь лишь необходимым атрибутом классического танца. Этот же аспект темы – механика движения – проявляется у Сомова в наброске «Танцовщица. Костюм А. Павловой для балета “Арлекинада”», где одна модель – А. Павлова – представлена в различных фазах движения. Если в предыдущем наброске Сомов четыре раза изображает одну и ту же модель в различных статичных положениях, выделяя позу, а не танцевальное движение, то здесь он сосредотачивает внимание на отдельных элементах одного и того же движения, как бы фиксируя его состояние три раза, передавая его амплитуду от начала до конца, что позволяет почувствовать его многозначительность, его предыдущую и последующую стадии. Здесь наиболее отчетливо проявилась способность художника думать на бумаге, вовлекая зрителя в процесс своих размышлений. Если внимательно присмотреться к наброску, можно заметить, что одна нога А. Павловой – опорная, остается неизменной, одна рука также недвижима. Движение осуществляется при помощи второй работающей ноги, головы и другой руки. Можно даже определить конкретное движение, изображенное Сомовым – rond de jambe par terre en de dans или rond de jambe en l’ar en dedans (круговое движение работающей ноги по полу или воздуху вовнутрь). Линия движения начинается с чуть намеченной художником ноги, которая постепенно выпрямляется, носок оттягивается вперед, затем совершается движение по дуге по полу или в воздухе, и зафиксированная Сомовым работающая нога отставляется на носок в сторону, завершая движение. Можно предположить, что изображено другое движение (attitude), но это только одна поза изображенной фигуры. Две другие фигуры фиксируют движение buttement tendu simple – выставление ноги вперед, в сторону, назад на носок. Кроме того, в верхней части листа в двух движущихся фигурках художник передает легко узнаваемое балетное движение pas de bourre – быстрый бег на пальцах. Подробно рассматривая все фазы балетных движений, переданные художником, мы чувствуем взаимную согласованность отдельно показанных элементов па. К. Сомов как будто демонстрирует, насколько удобен для классического танца предложенный им костюм. Данный набросок, как мы уже говорили, представляет собой наглядный пример отражения одного из аспектов балета – механики, техники балетного движения. Все остальное – портретное сходство с А. Павловой, сам облик костюма – отступает на второй план.
Остановимся также на наиболее показательном для С. Судейника наброске «Костюм для Т. Карсавиной в “Саломее”». Здесь сразу можно увидеть различие стилей художников, состоящее не только в том, что Сомова интересует прежде всего движение. Даже если сравнить с упомянутым рисунком законченный вариант сомовского костюма, где запечатлена одна поза, как у Судейкина, основное отличие будет заключаться в другом. Сомовский набросок при всей живости переданного движения не несет узнаваемых примет облика А. Павловой, в эскизе костюма Судейкина можно уловить не только облик Т. Карсавиной, но и индивидуальную ноту ее творчества. Общность костюмов, изображенных Сомовым и Судейкиным, состоит во внимании обоих к передаче движения. Однако если Сомов углубляется в сам процесс танца, то движение у Судейкина типичное, как бы фиксирующее наиболее характерный кульминационный момент, свойственный для определенной балетной роли. Недаром один из зарубежных художников точно повторил в своей скульптуре Т. Карсавину в этом образе.
Продолжая разговор об образах балета в творчестве двух мастеров, необходимо коснуться серии станковых работ по мотивам итальянских комедий и арлекинад, в которых проявляется особый «театрализованный» взгляд художника, выискивающий в натуре эффектные ракурсы, пластические движения, выразительные силуэтные ритмы. Эстетические идеалы балета – гармония и красота человеческого тела, выраженные в бесконечных Арлекинах и Коломбинах, в их пластических позах – это определенные культурные и эстетические каноны в истории ретроспективизма. Здесь мы встречаемся с отзвуками балетной темы в ином, более тонком и сложном преломлении. В «Арлекинадах», «Маскарадах», «Коломбинах», «Дамах» и «Пьеро» К. Сомова и С. Судейкина, которые стали на рубеже веков одной из распространенных форм театрального образца, мы обнаруживаем не прямое изображение танца, а передачу тех его свойств, которые только в классическом танце и проявляются. Умение пластически выразить мысль – вот что отличает артиста балета на сцене. Произведения К. Сомова в этом отношении открывают условный мир маскарадного представления, передают художественную выразительность хореографического искусства. Ж. Новерр писал: «В человеческих страстях есть некая степень пылкости, которую невозможно выразить словами, вернее для которой слов уже не хватает. Вот тогда и наступает торжество действенного танца. Одно па, один жест, одно движение способны высказать то, что не может быть выражено никакими другими средствами, чем сильнее чувство, которое надлежит живо писать, тем труднее выразить его словами» [3, с. 45]. Мимико-жестикуляционная речь в балете не примитивна, она способна рассказать о многом. И у героев Сомова она также необыкновенно выразительна. На его картинах словно оживает жеманный XVIII век – эпоха менуэта и напудренных париков. Сюжет полностью подчиняется целям и задачам психологического изображения. Как бы ни были значительны события на картине сами по себе, они приобретают смысл и интерес только в психологическом истолковании. У Сомова и Судейкина главные герои почти всегда выдвинуты на первый план. Если у Судейкина они кукольны, статично-созерцательны («Коломбина и Полишинель» (ГУТМ), «Маскарад» (1911, собр. Р.Е. Кроттэ), «Сад Арлекина» (1915 – 1916, СХМ), «Маскарад» (1937, ЕКГ), «Арлекинада» (КОХМ) и др.), то у Сомова они живут так, как играют, как это свойственно театральному актеру, мимика которого подчеркнута в соответствии со спецификой сценического действия. Их «сценическое» поведение несколько манерно, но жесты созвучны движениям души.
Жест у Сомова раскрывает самые потаенные глубины, вызывает сокровенные мысли. Действие на картинах Сомова нельзя выразить словами – в этом состоит их аналогия с балетом. Примером тому являются работы «Маскарадная сцена. Набросок композиции», «Амур и дама в маске», «Маскарад» (1914), «Маркиза и Амур», «Дама и музицирующий кавалер» (1896), «Дама, кавалер и Амур» (все – ГМИИ), «Арлекин и Дама. Вариант композиции» (1912, ГРМ), «Арлекин и Дама» (1912, ГТГ), «Язычок Коломбины» (1913, ГРМ), «Пьеро и Дама» (1910, ОХМ), «Маскарад» (НОКГ), «Фейерверк» (1912, музей-квартира И. Бродского) и др. В самих этих картинах, отличающихся слайдовой цветностью, властвует стихия театрального диалога, отражающая внутренний ритм окружающей жизни. У Судей-кина же мы встречаем уравновешенную статику парадной фотографии.
Первые поиски балетного образа у Судейкина относятся к 1906 г., когда на выставках появились картины «Балетный апофеоз» и «Балетная пастораль» (обе – ч.с.). К ним примыкают «Коломбина и Полишинель» (ГЦТМ) и две «Балетных пасторали» (обе – ГТГ). Они еще идут от театрализованных персонажей К. Сомова с его традиционными устало-красивыми Коломбинами и утонченно-раскованными Арлекинами, пластический рисунок движения которых всегда находится в гармонии с их внутренним миром. В образном строе и поэтике картин Судейкина та же мера художественного обобщения мысли и типизации персонажей, что и в работах Сомова.
Театр для обоих художников условен, и зритель изначально настроен на «рисованную ложь выдуманного мира». А.А. Евреинова вспоминала: «Пьеро, Арлекины, лукавые Коломбины изображенные <…> в веселом хороводе, почти гипнотически уводили меня от слишком невыносимой действительности <…> Просыпаясь утром, я любила поздороваться с моими новыми жильцами над моей кроватью – судейкинскими красочными героями Арлекинады» [1].
Традиционная сказочная неправда у Судейкина сильнее и ярче, чем у Сомова, неслучайно он увлекается примитивом, уходящим своими корнями в народное сознание, намеренно стилизующим художественные формы этого творчества. «Художник не боится проделывать самые смелые эксперименты, давать самые неожиданные комбинации, обращаться к самым странным источникам. Он пускает в ход русский кубок и старинный фарфор, балаган и гобелен, дерево и кружево. Он, как волшебник, взмахивает рукой и прелестные в своей аляповатости русские олеографии сменяются изящными и дразнящими силуэтами и масками из “итальянской” комедии дел “Арте” <…> от постановок в стиле масленичного балагана он переходит к постановке “под Ватто”. Но и тут он остается Судейкиным» (Там же). К. Сомов не способен взглянуть на мир тем чистым детским взором, который присущ Судей-кину. Однако в произведениях такого рода у обоих художников ощущается маскарадно-театральная форма фокинского балетного спектакля, возрожденная после Дидло, чувствуются определенные мотивы и сюжеты, постоянно интересовавшие балетмейстера.
Кроме типичного примера изображения косвенной формы танца для творчества «мирискусников» характерно также построение многофигурных композиций, заставляющих вспомнить бывшие балетмейстерские искания М. Петипа и Л. Иванова. Такие произведения видятся через фильтр воспоминаний, звучат как тоска по прошлому, его идеализация. Художники придают принципиальное значение структурному подобию внутренней организацией отдельной сцены балетного спектакля образной системе своих живописных работ. Для художников рубежа веков балетный мотив был идеальным образом воплощения их художественных концепций. В нем они видели что-то созвучное своим радостям и печалям, находили моменты полного душевного сближения. Как бы боясь жесткой реальности, скучной повседневности, они пытались уйти в причудливые перипетии хореографического сюжета, его бесконечные фантастические просторы. В легендах и сказках романтического балета художники чаще все- го находили материал для своих композиций. В «Балетных пасторалях» и «Апофеозах» С. Судейкина, «Балетах» К. Сомова выражена сущность одного из направлений ретроспективизма – уход от действительности в мир мечтаний и грез. Многочисленные балетные (и не только балетные) произведения С. Судейкина («Балетный апофеоз» (1906, ч.с.), «Балетная пастораль» (1906, ч.с.), «Балет» (1910, ГРМ), «Композиция по мотивам “Лебединого озера”» (1910, ПМТМК), «Эскиз декорации для постановки балета А. Адама “Жизель”» (1913, ГРМ, собр. Л.С. Сигалова), «Эскиз декораций для постановки балета “Лебединое озеро”» (1914, ГРМ)) пронизаны танцем и представляют богатый материал для рассуждений об индивидуальном видении художником этой темы. Балетные образы С. Судейкина, безусловно, примыкают к мирискусническим традициям. Тем не менее это художник, наделенный воображением и образом мышления, дающими нам другую организацию театрального мира. С балетным образом в творчество Судейкина входит принципиально иной герой, решительно ни на кого не похожий. Он существует особняком, ему не свойственна открытая эмоциональность. У Судейкина почти невозможно отличить эскиз декорации для балета от станковых работ на балетную тему, что объясняется своеобразием творческого мышления художника, для которого отразить балет в живописи, будь то декорация для спектакля или просто балетный мотив, значит создать зрительный образ некой театрализованной фантазии. Постепенно Судейкин уходит от стилизации картин Сомова, где сюжетные кульминации завязывались на главных героях, а окружающая обстановка появлялась преимущественно в качестве фона. Он отказывается от живописного эффекта театрального костюма. На лицах героев Судейкина нет глубоко спрятанных эмоций и чувств, тайна которых выступает у Сомова с полной силой и захватывающей обнаженностью. Его балетные композиции, напоминающие атмосферу картин А. Ватто и Ф. Буше, строятся как сценическое пространство, на котором развертывается мечтательнопризрачное театрализованное действие, где герои живут словно стихийно, в блаженстве бездумья. Поэтика балетных работ Судейкина – это сентиментализм, своеобразно преломившийся сквозь призму романтики. На картинах художника царят удивительное спокойствие и некая патриархальность. Действие танца развертывается всегда неторопливо, оно словно приближается к ритму размеренной жизни. Пластика героев свободна от всякого намека на ненужный, по мнению Судейкина, эксцентризм, от претензий на внешний сомовский эффект. Недаром критик В.М. Соловьев, признавая мышление Су-дейкина театральным, тем не менее назвал театрализованное действо на его картинах «атеатральным». «Если бы случайно нашелся какой-нибудь маг и волшебник, который своей чудесной палочкой вернул бы жизнь этим живописным фрагментам, то весьма возможно, что театральные персонажи были бы удивлены и слегка сконфужены. Они не могли бы дальше развить то сценическое положение, которое на холсте обозначено художником. В лучшем случае некоторые из них были бы в состоянии исполнить гавот, менуэт или какой-нибудь номер из программы чисто хореографического характера» [5, с. 13].
Эмоциональность Судейкина, можно сказать, особой природы, она не разомкнута и не открыта, но направлена к зрителю. Хореография – искусство во многих отношениях единственное в своем роде, где сопереживание и сотворчество играют немалую роль. Понимая это, художник стимулирует зрительскую активность, намечая лишь основные контуры психологического состояния героев, а в остальном полагаясь на воображение зрителя.
На переднем плане композиций С. Судейкина обычно дуэт или группа танцовщиц, которая, постепенно оттеняясь на второй план, распадается на отдельные фигуры. Дуэт не входит в картину «вставным дивертисментом», а составляет ее атмосферу, точно накладывается на ее фон. В картинах формально нет главных героев, место которых занимает группа. Однако и жизнь этой группы не исчерпывает содержание произведения. Аллегорические фигуры животных, амуров и ангелов столь же прекрасны и значительны для Судейкина, они органично вплетаются в характер и мелодику танца, во всю ткань изобразительного повествования, ведь балет Судейкина – это балет-сказка, балет-шутка, балет-ирония. Танцовщицы знают цену тишине, самоуглублению, погружению в неведомые нам состояния.
Во взаимодействии с образами персонажей возникает и тема пейзажа. Природа в произведениях Судейкина – существенная часть картины, помогающая художнику раскрыть собственный оригиналь- ный метод понимания и истолкования балетного сюжета. В этом плане особенно показательна картина «Балет». Природа и танец – вот, пожалуй, главные темы этой работы. А смысл ее – растворение духовного состояния героя в окружении. Жизнь природы и жизнь души, настроение природы и настроение танца приравниваются друг к другу. Проявлявшиеся в других произведениях, эти черты здесь стали центральными, их расплывчатые контуры сгустились, символика обрела своего рода поэтическую наглядность. Нельзя забывать, что речь идет о сентиментализме, в поэтике которого пейзаж одухотворяет душу, умиротворяет страсти, гармонизирует мир. Ровный холодный цвет «Балета», дающий почувствовать само кредо символистов – аромат сказочного цветка «Голубой розы», не схож с живым цветовым мазком «Балетной пасторали» или «Балетного апофеоза». Танцовщицы в бело-фиолетовых бликах, словно сотканные из водной дымки и тумана, стали похожи на галлюцинации. Они мягко моделируются художником, утрачивают реальные контуры, растворяются в растушеванных очертаниях голубого пейзажа, вступая между собой в живописно-пространственное созвучие.
«Русский балет» (1931, ОАМ), «Русский балет. Сильфида» (1930, ОАМ) – эти работы К. Сомова, как и произведения С. Судейкина, интересны не столько ракурсом темы, сколько выраженным в ней художественным мироощущением, сформированным той дистанцией, которую задало прошедшее время. И поэтому тема этих произведений не сам балет, а скорее эмоциональное воспоминание о нем. Мечтательно-просветленный образ Сильфиды возвращает нас к гравюрам XIX в., образам М. Тальо-ни и А. Истоминой, романтическому направлению в балете. Однако принципиальное отличие произведений Сомова заключается в стремлении увидеть балетный сюжет не однозначно и прямолинейно, а в единстве многообразных качеств. Здесь художников увлекает не столько сочетание вымышленного и реального, сколько пограничная полоса между действительностью и фантазией, тот неуловимый миг, когда танец становится реальностью. Если у Судейкина балетные персонажи пребывают в таинственном и загадочном настроении, их существование не сиюминутно, а вечно, они живут и танцуют на этих созданных воображением художника полянах, как на театральных подмостках, среди чистых прудов, отражающих их фигуры вместе с утренними восходами и вечерним закатами, то сомовские «Русские балеты» передают вполне реальную обстановку в зрительном зале. Сами танцовщицы у художника, хотя наделены несколько наигранными, чисто сомовскими жестами, все же обычные люди и являются лишь носителями происходящего таинственного сказочно-красивого зрелища. Лишь на краткий миг приоткрылись для них судьбы романтических героев, быстротечно проживающих свою волшебную жизнь. Художник направляет поток света на группы танцующих балерин, сокращая расстояние между зрительным залом и сценой. Фантазия танца становится продолжением его будней, но от этого сами произведения ничуть не становятся беднее. Греза обретает черты реальности, а реальность кажется прекрасной и долгожданной, как греза.
Итак, в творчестве К. Сомова и С. Судейкина проявился особый интерес к ассоциативно воспринимаемому миру танца, самой его материи, эстетическому и даже философскому его осмыслению. Так, достаточно бывает слегка изменить угол зрения, чтобы вызвать столь характерный для ретроспективного стиля рубежа XIX – XX вв. «сдвиг реальности». Трансформация, происходящая с балетным образом во времени, очень интересна и показательна. Она наглядно демонстрирует, как изменяется само человеческое восприятие. Никогда прежде тема танца не обладала столь проникающей способностью «рентгеновского просвечивания» эпохи, столь выразительным языком, позволявшим живописи открыть прямой доступ к постижению законов искусства и бытия; зримо представить действие этих законов через изображение, психологию, мироощущение. Отстранение во времени давало творческому методу художников необходимую дистанцию, с которой можно было судить о современности через метафору, символ, ассоциацию, иносказание. Привычная действительность была отодвинута от глаз и увидена издалека, с внушительного расстояния, с неожиданной стороны. Художники стремились к реконструированию, воссозданию прошедших эпох в их осязаемых, видимых образах, у них был свой путь в мир театра, и, конечно, это был путь поэтов и мечтателей.
Список литературы Танец К. Сомова и С. Судейкина в художественно-образной природе ретроспективизма
- Евреинова А.А. Воспоминания о Судейкине, 1956//ЦГАЛИ, ф. 921, оп. 1, ед. хр. 346.
- Коган Д.З. С.Ю. Судейкин. М., 1974.
- Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. Л.-М., 1965.
- Письмо В.Ф. Нувелю к К.А.Сомову. 14 сент. 1987 г.//Сомов К.А. Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1974.
- Соловьев В.Н. С. Судейкин//Аполлон. 1917. № 8 -10.
- Эрнст С.Р. К.А. Сомов. СПб., 1919.