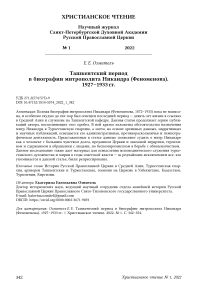Ташкентский период в биографии митрополита Никандра (Феноменова). 1927-1933 гг.
Автор: Озмитель Екатерина Евгеньевна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 1 (100), 2022 года.
Бесплатный доступ
Полная биография митрополита Никандра (Феноменова, 1872-1933) пока не написана, и особенно скудно до сих пор был освещен последний период - девять лет жизни в ссылках в Средней Азии и служение на Ташкентской кафедре. Данная статья продолжает серию публикаций автора, восполняющих этот пробел. В ней кратко изложены обстоятельства назначения митр. Никандра в Туркестанскую епархию, а затем, на основе архивных данных, нарративных и научных публикаций, освещается его административная, противораскольничья и гимнографическая деятельность. Представленные в статье данные позволяют судить о митр. Никандре как о человеке с большим чувством долга, преданном Церкви и законной иерархии, терпеливом и сдержанном в обращении с людьми, но бескомпромиссном в борьбе с обновленчеством. Данное исследование также дает материал для осмысления исповеднического служения туркестанского духовенства и мирян в годы советской власти - за редчайшим исключением все, кто упоминается в данной статье, были репрессированы.
История русской православной церкви в средней азии, туркестанская епар- хия, архиереи ташкентские и туркестанские, гонения на церковь в узбекистане, казахстане, туркмении, киргизии
Короткий адрес: https://sciup.org/140290628
IDR: 140290628 | УДК: 271.2(574/575)-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_1_342
Текст научной статьи Ташкентский период в биографии митрополита Никандра (Феноменова). 1927-1933 гг.
Деятельность митр. Никандра (Феноменова) в Туркестанской епархии долгое время оставалась в тени ярких событий из жизни священноисповедника Луки (Войно-Ясенецкого), который занимал Ташкентскую кафедру непосредственно перед ним. Кроме того, дела и личность митр. Никандра как бы стушевывались в глазах историков среднеазиатского православия также и от близости к нему другого выдающегося архиерея — митр. Арсения (Стадницкого), который занял эту кафедру после митр. Никандра. Так, в книге «По стопам апостола Фомы» утверждается, что «до 1933 года формально не принимая на себя возглавления Туркестанской епархии, он [митрополит Арсений] осуществлял духовное руководство ее правящими и ссыльными архиереями, в числе которых были митрополит Никандр (Феноменов), архиепископы Лука (Войно-Ясенецкий), Тихон (Шарапов), Борис (Шипулин). Благодаря тактике „сохранения возможного“, избранной митрополитом Арсением, в Ташкентской и Туркестанской епархии в 1925–1936 годах сохранилась церковная жизнь» [Владимир Иким, 2011, 87].
Не умаляя заслуг митр. Арсения и соглашаясь с тем, что он, пребывая в Ташкенте на покое, не устранялся от участия в епархиальных делах, можно с уверенностью предположить, что перечисленные архиереи не оставались вовсе бездеятельными и безынициативными. Они могли иметь и имели свое мнение, свой характер и, большинство из них, немалый архиерейский стаж. В особенности это относится к митр. Никандру, за плечами которого было несколько кафедр: Кинешемская (викарий Костромской епархии с 10 июля 1905 по 1908 г.), Нарвская (викарий Санкт-Петербургской епархии с февраля 1908 по 1914 г.), Вятская (правящий архиерей с 20 марта 1914 по январь 1922 г.), Крутицкая (управляющий Московской епархией с февраля 1922 по 24 января 1924 г.; с 22 марта 1922 г. под арестом) и Одесская (с ноября 1925 по сентябрь 1927 г., сведений о вступлении нет).
Для того чтобы составить представление о деловых способностях владыки Никандра, достаточно кратко осветить его деятельность в Санкт-Петербурге. В его ведении находились: Александро-Невская лавра, Исидоровское епархиальное женское училище, Александро-Мариинская богадельня, епархиальный миссионерский совет, епархиальный свечной завод, эмеритальная касса духовенства епархии и Комитета Дома трудолюбия, рассмотрение протоколов и журналов первой экспедиции духовной консистории, наблюдение за деятельностью законоучительского кружка при Обществе распространения религиозно-нравственного просвещения, наблюдение за ведением духовенством религиозно-нравственных чтений и бесед в полицейских участках и арестных домах столицы, наблюдение за преподаванием Закона Божия в светских средних и низших правительственных и частных учебных заведениях и многое другое (Журнал, 1913, 2). Владыка Никандр освятил множество храмов, участвовал в общественных мероприятиях, активно занимался проповеднической и литературной деятельностью. Во время отпусков и частых болезней митрополита Санкт-Петербургского Антония (Вадковского), а также в ноябре 1912 г. после его кончины еп. Никандр временно управлял всей епархией. При новом правящем архиерее, митр. Владимире (Богоявленском), он сохранил должность первого викария, что свидетельствует не только о его добросовестной исполнительности, но и о прекрасных административных способностях. Шесть лет служения в Санкт-Петербурге дали владыке Никандру богатый опыт столичного епархиального управления.
Затем было разностороннее плодотворное служение в Вятской епархии в качестве правящего архиерея, энергичные труды в разных комиссиях Поместного Собора, где, среди прочего, он заведовал чрезвычайно трудной в революционное время издательской деятельностью и составил самый первый список имен репрессированного московского духовенства (Записка, 2011, 75–76). Были также отважные попытки сохранения церковной собственности в первые годы советской власти, закончившиеся тюремным заключением, «Первым московским процессом», следствием по делу Патриарха Тихона и двумя ссылками в Среднюю Азию.
Эти страницы биографии митр. Никандра в целом освещены в церковной историографии, чего не скажешь о дальнейшем — о пребывании на Ташкентской кафедре. В большинстве хрестоматийных биографий при освещении этого периода можно встретить лишь упоминание о болезненном виде владыки, неверные сведения о том, что при нем в Туркестанской епархии было 27 храмов, и миф, если не сказать клевету, о его сребролюбии. Это не просто мало — это так же несправедливо, как и утверждение о том, что фактически при нем епархией управлял митр. Арсений (Стадницкий). Эти соображения и подтолкнули нас к исследованию ташкентского периода биографии митр. Никандра. Основным источником для данного исследования стали документы из фонда митр. Никандра (НА Уз. Ф. Р-429).
Одной из причин, побудивших заместителя Патриаршего местоблюстителя митр. Сергия (Страгородского) сменить в 1927 г. правящего архиерея Туркестанской епархии, был затяжной кризис епархиального управления1. С июля 1923 г. правящий архиерей, еп. Лука (Войно-Ясенецкий), находился в ссылке. В 1925 г. Патриарх Тихон назначил вернувшегося из обновленчества еп. Сергия (Лаврова) на Семиреченскую викарную кафедру с поручением временно управлять всей Туркестанской епархией. Воссоединение еп. Сергия с Патриаршей Церковью было недолгим, кроме того, он скомпрометировал себя, с амвона объявив о намерении снять сан и жениться. Священнослужители, не признавшие полномочий еп. Сергия, были запрещены им в служении, каковой запрет не признали. Многие из них вдохновлялись идеями ссыльного еп. Андрея (Ухтомского), убежденного сторонника автокефалии, который, находясь в Туркестане под запретом, продолжал служить в патриарших храмах. Епископ Лука, вернувшись из ссылки в Ташкент 8 февраля 1926 г., пытался восстановить церковное единство путем примирения враждовавших сторон, но не преуспел. Его снисходительное отношение к еп. Сергию (Лаврову) и еп. Андрею (Ухтомскому), некоторые административные и канонические просчеты привели к новым раздорам среди верующих Ташкента и пригородных сел. Ссоры в среде духовенства, неподобающие действия и жалобы прихожан давали обновленцам многочисленные поводы для дискредитации приверженцев Патриаршей Церкви.
Митрополит Сергий (Страгородский) осенью 1926 г. пытался исправить ситуацию, переместив еп. Луку в Рыльск на место викария Курской епархии. Новый временный управляющий Туркестанской епархией архиеп. Дионисий (Прозоровский) вступить в управление не сумел из-за противодействия ташкентской паствы и клира Сергиевской церкви. Затем последовал указ о перемещении еп. Луки на Ижевскую кафедру. Ни Рыльского, ни Ижевского назначений владыка Лука не принял и весь 1927 г. оставался в неопределенном состоянии по отношению к высшему церковному руководству и к делам управления своей епархией. Принимать «Декларацию» митр. Сергия владыка Лука также не спешил. Чтобы не потерять вместе с ним ташкентскую паству, а с Ташкентом — и всю Среднюю Азию, митр. Сергий в сентябре 1927 г. в очередной раз принял решение о замене туркестанского архиерея.
Если в обычное время при назначении на кафедру главным было соблюдение правительственной иерархии, соответствия статуса архиерея значимости епархии, то теперь выбор архиерея для Ташкентской кафедры определялся другими факторами. Во-первых, надо было учитывать место жительства архиерея и/или разрешение властей на его перемещение. Во-вторых, необходима была лояльность митр. Сергию, готовность принимать его назначения. В-третьих, теперь успех назначения зависел и от готовности паствы принять нового архиерея — в данном случае его авторитет должен был быть не меньшим, чем авторитет чрезвычайно почитаемого в Ташкенте епископа Луки.
Митрополит Никандр был подходящей кандидатурой. К осени 1927 г. он после второй среднеазиатской ссылки находился в г. Ашхабаде (Письма Шика, 2016, 427), как митрополит и ближайший соратник Патриарха Тихона он обладал весомым авторитетом. Кроме того, он мог рассчитывать на поддержку митр. Арсения, который был близок к еп. Луке. И, самое главное, митр. Никандр был в числе тех архиереев, которые сразу согласились с новым курсом церковной политики и не составили оппозиции после «Декларации» 1927 г. О своем отношении к митр. Сергию он писал: «В его действиях не вижу ничего вредного для православной веры и православной Церкви. Он действует как истинный сын ее, строго руководствуясь церковными канонами» (Материалы 1927 г., 2011, 338).
«Заместитель Патриаршего местоблюстителя и временный при нем Патриарший Священный Синод определением своим от 15 сентября 1927 года за № 79 постановили Преосвященному митрополиту Одесскому Никандру — быть митрополитом Туркестанским и Ташкентским», о чем владыке был послан указ, датированный 17 сентября 1927 г. (НА У з. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 55. Л. 20). Руководствуясь исключительно соображениями о благе Церкви, митр. Никандр принял это назначение, несмотря на явное нарушение правил иерархии управления — ни один митрополит до него Ташкентскую кафедру не занимал: епархия была молодой, далекой и бедной. Свое согласие митр. Никандр объяснил так: «монашеским послушанием [я] принял новое свое назначение с лучшей епархии на худшую. С знаменитой кафедры — на малоизвестную» (Материалы 1927 г., 2011, 336). Далее в этом письме, которое можно рассматривать как своего рода речь при вступлении в управление епархией, следуют рассуждения о том, что «Высшая церковная власть видит, что полезнее для Церкви», о важности личного пребывания архиерея в епархии, о необходимости «трудиться в ней с напряжением всех сил духовных и телесных» (Материалы 1927 г., 2011, 338).
Митрополит Сергий в начале февраля 1928 г. с благодарностью писал владыке Никандру: «Все здесь [в Патриаршем Синоде] очень умилились Вашей готовностью принять на себя Туркестанскую епархию, пока Бог судит Вам проживать на ее территории. Я просто терял голову с Туркестанскими делами. Теперь, слава Богу, как будто эта болячка перестала беспокоить и ночью и днем» (НА У з. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 63. Л. 57). Ради митр. Никандра статус Туркестанской епархии был повышен, и она стала именоваться Ташкентско-Туркестанской митрополией2.
Вступив в управление епархией, митр. Никандр какое-то время не мог переехать в свой новый кафедральный город Ташкент. В письме от 27 июня 1928 г. митр. Сергий сообщил ему: «ввиду состоявшейся фактической легализации… Высшего ЦерковноАдминистративного органа — временного Патриаршего Священного Синода™ Вы можете свободно прибыть в кафедральный город вверенной Вам епархии и вступить в отправление своих Архипастырских обязанностей. <…> По прибытии на место войти в надлежащие сношения с местной Гражданской властью на предмет организации Епархиального Управления на началах, изложенных в указе Патриаршего Священного Синода от 23-го мая с.г.» (НА Уз. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 35. Л. 62)3.
В Ташкенте митр. Никандр встретился с митр. Арсением, с которым был дружен со времени их совместного тюремного заключения в Москве и следования в среднеазиатскую ссылку в 1924 г. Здесь же, в Ташкенте, не приняв очередного назначения митр. Сергия, работал и служил на покое владыка Лука. Любовь к нему ташкентской паствы была столь велика, что приезд митр. Никандра в Ташкент был встречен резко негативно. Сергиевский храм, остававшийся единственным в ведении староцерковного духовенства, стал местом выражения откровенной неприязни к новоназначенному архиерею и его ближайшему сотруднику прот. Михаилу
Андрееву4. Конфликты в сергиевской общине угрожали самому ее существованию. Незадолго до назначения митр. Никандра власти устроили облаву на прихожан Сергиевского храма. 6 августа 1927 г. в подвал ГПУ было заключено около сорока человек. Через полтора месяца их стали выпускать, оставив в заключении девять членов церковного совета, в том числе старосту М. А. Маева. Заключенным было предъявлено обвинение по ст. 156, 157 и 159 УК УзССР («одурманивание масс религиозным культом для свержения Советской власти; принудительные сборы; расходы не по назначению»). 25 октября 1927 г. их выпустили, а 20 марта 1928 г. приговорили к трем годам высылки за пределы Средней Азии (ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 246. С. 5–6). Таковы были обстоятельства, при которых вступил на Ташкентскую кафедру митр. Никандр.
В 1927 г. Туркестанская епархия простиралась на все области бывшего Туркестанского края: Сырдарьинскую, Семиреченскую, Ферганскую, Закаспийскую, Самаркандскую, а также на территорию бывших Бухарского и Хивинского эмиратов, включенных в состав среднеазиатских республик. Границы епархии оставались почти прежними — немногочисленные теперь приходы раскинулись на пространстве шести тысяч квадратных километров. В Средней Азии, где до 1930-х гг. сохранялось активное сопротивление коммунистам (басмаческое движение), где не хватало путей сообщения и средств связи, правящий архиерей, находясь под надзором ГПУ, не мог свободно объезжать свои церкви. В деле организации и сохранения приходов, в деле грамотного противостояния обновленцам ему приходилось надеяться только на помощь викариев. Тем не менее, к 1927 г. викарий в Туркестанской епархии был один — епископ Пишпекский Мелхиседек (Аверченко), окормлявший приходы Пишпекского округа Киргизской АССР (ныне Северная Киргизия). Остальные вика-риатства — Верненское/Алма-Атинское, Ашхабадское и Аулие-Атинское — не действовали. Особенно болезненным было отсутствие православного архиерея в Алма-Ате. Только приходы Сыр-Дарьинского, Кзыл-Ординского и Кара-Калпакского округов Казакской АССР (ныне Казахстан и Узбекистан) были в ведении туркестанских архиереев. Приходы г. Алма-Аты и Жетысуйской (быв. Семиреченской) губернии с 1918 г. оставались без канонического возглавления и к 1927 г. все, за редчайшим исключением, перешли в обновленчество.
Перед приходом митр. Никандра на Ташкентскую кафедру судьба пустующего Верненского викариатства была решена. 1 сентября 1927 года в Алма-Ату был назначен епископ Лев (Черепанов) с титулом Алма-Атинский и Семиреченский, а 12 октября 1927 года епископ Пишпекский Мелхиседек (Аверченко) стал викарием Алма-Атинского архиерея (ГА АО. Ф. 483. Оп. 2. Д. 41. Л. 44, 45). Таким образом, к концу 1927 г. Туркестанская епархия Патриаршей Церкви — Алма-Атинская и Туркестанская. Пишпекское викариатство было передано Алма-Атинскому архиерею, а два других так и оставались незанятыми, упоминания о них исчезают. Таким образом, к 1928 г. Туркестанская епархия, именуясь митрополией, стала унитарной, потеряв существенную (по числу прихожан) часть своей канонической территории — южный Казахстан и северную Киргизию.
Однако вопросами Алма-Атинской епархии митр. Никандр занимался и в дальнейшем. В 1929 г. на заседании зимней сессии Временного Патриаршего Синода митр. Никандр сообщил, что «Преосвященный Пишпекский Мелхиседек находится в пределах Туркестано-Ташкентской митрополии и уже долгое время отсутствует в своей епархии, почему митрополит Никандр полагал бы полезным™ освободить последнего от управления Пишпекской кафедрой и назначить его в распоряжение Митрополита Туркестанского» (НА Уз. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 68. Л. 4). Определением за № 173 от 30 октября 1929 г. просьба эта была удовлетворена: викарий Алма-Атинской епархии был назначен в распоряжение Ташкентского архиерея. Вопросом Пишпекского викариатства митр. Никандр занимался потому, что Алма-Атинская кафедра в это время вновь пустовала. Летом 1929 г. еп. Лев (Черепанов) был арестован, а назначенный на его место 1 октября 1929 г. еп. Августин (Беляев) в управление вступить не смог из-за отказа в регистрации.
Поездка в Москву осенью 1929 г., о которой говорилось выше, была для митр. Ни-кандра, скорее всего, первой с момента вступления на кафедру. Получив право перемещения по стране, митр. Никандр 30 сентября 1931 г. стал постоянным членом Синода, и поездки в Москву для решения общецерковных вопросов стали регулярными. В октябре 1932 г. он участвовал в хиротонии Иоанникия (Попова) во епископа Камышинского Саратовского викария (ЖМП, 1932, 8).
В своей епархии митр. Никандр занимался вопросами восстановления епархиального управления и организации приходской жизни, заботился о духовенстве, церковном пении, противодействовал обновленчеству.
Полтора года потребовалось для того, чтобы староцерковная община Ташкента признала митр. Никандра своим архиереем. В Сергиевском кафедральном соборе ему агрессивно противостояли фанатичные почитатели владыки Луки, пассивно — некоторые члены приходского совета и клира. В конфликт были втянуты духовные чада прот. Михаила Андреева, враждовавшего с еп. Лукой, а также члены приходского совета Успенского храма в пригородном поселке Куйлюк. И все-таки именно здесь, «на Куйлюке», 9 июня 1929 г. состоялось богослужение, ознаменовавшее примирение еп. Луки, прот. Михаила (Андреева) и их «партий». Прекратились скандальные инциденты с публичным оскорблением духовенства, затихли будоражившие «партию лукинистов» слухи о незаконном смещении еп. Луки и необходимости его возвращения на Ташкентскую кафедру. Нет никаких сведений о прещениях в отношении недовольных клириков и мирян — преодолевая раздор, митр. Никандр применял только мирные средства. К еп. Луке он обращался уважительно, терпеливо дожидаясь момента, когда взаимоотношения между правящим и напокойным архиереями войдут в каноническое русло. Протоиерей Михаил Андреев жаловался митр. Сергию, что владыка Никандр «в своей пассивной простоте думает все превозмочь временем и благородством» (НА Уз. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 65. Л. 8). Но именно благодаря благородному тактичному обращению и неспешным действиям владыка Никандр сумел погасить ташкентский конфликт и укрепил свой авторитет.
Менее напряженными, но не более простыми были отношения митр. Никандра с последователями еп. Андрея (Ухтомского), роль которого в истории Туркестанской епархии в ранний советский период была весьма значима. В 1923–1928 гг. еп. Андрей с небольшими перерывами находился в ссылках в Теджене, Ташкенте, Пенджикенте, Ашхабаде и Кзыл-Орде. Совершая в Средней Азии тайные постриги и хиротонии, он создавал автокефальную иерархию не только для своей уфимской, но и для туркестанской паствы. Среди его ставленников были епископы Лука (Войно-Ясенецкий) и Мелхиседек (Аверченко), которые, подтвердив свои негласные хиротонии в Москве, вышли на открытое служение. Но сам еп. Андрей и его ставленник архим. Вениамин (Троицкий) выбрали другой путь. 10 сентября 1925 г. еп. Андрей совершил в Ашхабаде демонстративную акцию «примирения» со старообрядцами-беглопоповцами и стал резко критиковать местную и высшую церковную власть. Архимандрит Вениамин рассылал послания, которые, как писал прот. Михаил Андреев, «обновленцы широко использовали для агитации против нас [староцерковников], а безбожники для издевательства в газетах» (НА Уз. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 38. Л. 7 об.). Попав под запрет еп. Луки, архим. Вениамин продолжал совершать богослужения в Туркмении, а с начала 1927 г. — в пригороде Ташкента. К нему из кафедрального Сергиевского храма уходили те, кто был недоволен нестроениями в староцерковной общине, а затем и те, кто не принял новой церковной политики митр. Сергия.
Описание общины архим. Вениамина сохранилось в воспоминаниях Н. Ю. Фиолетовой, супруги профессора церковного права Н. Н. Фиолетова. «Наибольшее впечатление оставила на нас встреча и знакомство с архимандритом Вениамином (Троицким).
<…> Он поселился за городом, сняв на Никольском шоссе (с. Никольское, ныне в черте Ташкента. — Е. О.) небольшой домик. <™> В скором времени молельня перестала вмещать всех желающих присутствовать на богослужении. <…> Молодежь, которая бывала у нас, перекочевала из Сергиевского храма в общину Вениамина. Вениамин много с ней возился, беседовал, вразумлял, поучал» (Фиолетова, 1992, 69–70). Среди перекочевавших были и иподиаконы митр. Никандра, которые до этого посещали нелегальный христианский кружок Н. Н. Фиолетова для систематического изучения богословских наук. Иподиакон Юрий Панкратов стал духовным чадом архим. Вениамина и последовал за ним в Мелкесс (Фиолетова, 1992, 71).
В начале 1928 г. из Мерва (Туркмения) писали, что настоятель местной зарегистрированной общины священник Григорий Пеотрович поддерживает архим. Вениамина и сообщает о его готовящейся хиротонии. Автор письма спрашивал у митр. Никандра: «Имеет ли общение церковное и молитвенное с Вами иеромонах Вениамин именующий себя архимандритом? — Правда ли, что в ближайшее время Вы готовитесь преподать означенному Вениамину хиротонию во Епископа? <…> А то может случиться, что в один из скверных для нас дней мы, Мервская община, можем очутиться в лоне древле-старообрядческой паствы» (НА Уз. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 63. Л. 52–52 об.).
На письмо из Мерва владыка Никандр отвечал 20 февраля 1928 г.: «слух о молитвенном общении моем с Вениамином и о его предстоящей хиротонии во епископа [является] ложью, вымышленною, вероятно самим Вениамином, чтобы поддержать свой авторитет среди почитателей его, которые все более и более уменьшаются [в] количестве, переходя в сергиевский приход» (НА Уз. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 63. Л. 52). Ошибочными, скорее всего, были и слова о поддержке архим. Вениамина свящ. Григорием Пеотровичем, так как в том же году он был возведен в сан протоиерея, а в 1930 г. — награжден наперсным крестом, получив от архиерея самую высокую оценку своих трудов (об этом ниже). Тем не менее, в августе 1928 г. Вениамин (Троицкий) приезжал окормлять свои туркестанские общины уже в качестве архиерея — Бирским викарием автономной Уфимской епархии «андреевского течения» [Зимина, 2005, 332]. В конце 1928 г., если верить докладу обновленческого функционера Левицкого, «нигде не виданная община Вениамина» в с. Никольском еще существовала: отслужив здесь несколько служб, архим. Вениамин уехал с сестрами в Кзыл-Орду к еп. Андрею, оставив в Никольском несколько прихожанок с иеромонахом Аристархом (НА Уз. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 90. Л. 2 об.).
Влияние идей еп. Андрея на верующих Средней Азии уменьшалось по мере того, как укреплялся авторитет митр. Никандра и происходило умиротворение прихожан ташкентского Сергиевского храма.
Насколько широко распространились в других приходах епархии оппозиционные митр. Никандру настроения, судить трудно. Скорее всего, те, кто проживал в отдалении от Ташкента и других крупных городов, в этих конфликтах участия не принимали. После первой волны советских гонений на Церковь, которая пошла на спад в 1923 г., у православных появилась надежда на восстановление нормальной церковной жизни. Немногие, в основном монашествующие и ссыльные архиереи, собирались на тайные богослужения, но остальным представлялось важным сохранить храмы и регулярное богослужение, организовать правильную приходскую жизнь, которая без легализации в Советском Союзе была невозможна. Но духовенству и прихожанам, дезориентированным противоречивыми заявлениями и поступками туркестанских архиереев, слухами и пропагандой обновленцев, трудно было сделать выбор, в рамках какой юрисдикции оформлять легализацию. Всем тогда в России непросто было найти каноническое духовенство, но особенно трудно это было сделать в Средней Азии, вдали от столиц и духовных центров, в окружении множества ссыльных священнослужителей самых разных взглядов и направлений. В г. Аулие-Ата (ныне г. Тараз в Казахстане) в конце 1920-х гг. проживали в ссылке митр. Иосиф (Петровых), архиеп. Феодор (Поздеевский), другие православные священнослужители; здесь же прошел съезд обновленческого духовенства, постановивший организовать
Сырдарьинскую епархию. А Наталье Сиваковой5 ради местной тихоновской общины пришлось совершить долгую поездку в Киев, чтобы привезти книги, иконы и получить духовный совет у схиархиеп. Антония (Абашидзе), бывшего до 1912 г. туркестанским архиереем [Воронцов, 2018, 26]. Из устных рассказов ташкентских старожилов известно, что в 1920-х гг. в Киев к схиархиеп. Антонию за разъяснением духовных вопросов обращалась также семья Григория Тремсина, бывшего старостой храма в пос. Куйлюк, и другие верующие Ташкента.
Когда с назначением митр. Никандра управление Туркестанской епархией было налажено, то с просьбами о помощи в организации легальной церковной жизни, о разрешении приходских конфликтов и вопросов о легитимности тех или иных священнослужителей верующие стали обращаться в Ташкент. В ответ на просьбы прихожан митр. Никандр сделал ряд назначений. Иеромонах Александр (Неграмот-нов) в 1928 г. был определен к церкви с. Алексеевское Ошского окр. Киргизской АССР. В том же году протоиерей из Челябинской епархии Лев Васильев был назначен к кладбищенской церкви г. Ашхабада. Московские иеромонахи Рувим (Цыганков) и Киприан (Нелидов), проживавшие в Кзыл-Орде со своим духовным отцом еп. Варнавой (Беляевым), были назначены в Каракалпакию: иером. Рувим — в 1928 г. в Турткуль, а будущий прпмч. Киприан — в 1930 г. на станцию Аральское Море и/или в аральский поселок Муйнак (НА Уз Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 71. Л. 3 об.).
Назначая священнослужителей, митр. Никандр действовал очень обстоятельно. О стиле и методах его руководства можно составить представление по делу о назначении священника для общины на станции Туркестан и соседнего села Борисовка Сыр-дарьинского округа. Староста этой общины Агафия Александровна Терлова строила молитвенный дом взамен изъятой кладбищенской церкви. В мае 1928 г. в город Туркестан был направлен прот. Михаил Андреев, который составил подробную справку о проживавших там ссыльных: прот. Самуиле Очаповском, священниках Ардалионе Попове и Иакове Сердюкове, оптинском монахе Кирилле и регенте Стефане Наливай-ко (НА Уз. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 87. Л. 3-3 об.). Из этого документа видно, что, подыскивая кандидатуру, владыка интересовался не только способностями, но и здоровьем, материальным положением ссыльных священнослужителей и их семей.
Труды Агафии Терловой6 увенчались успехом: приход на станции Туркестан был зарегистрирован. Такие инициативные миряне, как Наталья Сивакова, Агафия Терлова, Григорий Тремсин, с радостью встретили появление авторитетного, строго православного законного Ташкентского архиерея. Несмотря на все политические и административные преобразования второй половины 1920–1930-х гг., духовным центром для верующих бывшего Туркестанского края оставался Ташкент, и только ташкентский архиерей в то время мог восстановить и укрепить нити, связующие воедино староцерковные приходы епархии.
Для легализации приходских общин митр. Никандр сумел использовать краткие передышки в серии атак государства на Церковь. Такая передышка была дана во второй половине 1927 г. после издания митр. Сергием «Декларации» о полной лояльности советской власти. Следующая передышка — в 1930 г., для того чтобы снизить недовольство народа, нараставшее из-за слишком быстрых темпов коллективизации, непосредственно связанной с закрытием церквей. Количество зарегистрированных в этот период православных приходов Туркестанской епархии увеличилось с 33 в 1928 г. до 41 в 1931 г.7
Рост числа приходов был заметным, но недолгим — уже в конце 1930 г. храмы стали закрывать. А ликвидация храма нередко заканчивалась и распадом церковной общины. 5 декабря 1930 г. митр. Никандр докладывал митр. Сергию: «29 ноября с[его] г[ода] Сергиевский в г. Ташкенте храм закрыт, и так как он был в Ташкенте единственным для староцерковников, для епархиального архиерея служил кафедральным собором, то прихожане его, по количеству очень многочисленные в полумиллионном городе, оказались в исключительном затруднении. <…> А между тем необходимость закрытия храма и причина, вызвавшая его, остается неизвестной для общины, которая посему пребывает в уверенности, что с ее стороны не было никаких нарушений заключенного с ней договора на пользование храмовым зданием, чтобы расторгнули этот договор и лишили ее, единственную и многочисленную староцерковническую религиозную общину в Ташкенте с полумиллионным населением, в то время как обновленческим общинам предоставляется в пользование 5 храмов, обращающие по сем общее внимание отсутствием в них богомольцев при совершении богослужения. Было бы вполне естественно один из них, более или менее вместительный, передать староцерковникам, о чем неоднократно возбуждались ходатайства со стороны последних» (НА Уз. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 76. Л. 104– 105). О закрытии храма по постановлению правительства владыка узнал 21 ноября в секретном отделе ОГПУ по Средней Азии. Как он сам сообщал в процитированном выше рапорте, начальник секретного отдела по церковным делам предложил, «считаясь с закрытием храма как окончательно свершившимся фактом, возбудить ходатайство о разрешении двух-трех молитвенных домов» (НА Уз. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 76. Л. 104). Получив в пользование только часовню Богородичной иконы «Всех скорбящих Радость» на кладбище по улице Боткина, Сергиевская «староцерковническая религиозная община» была переименована в Скорбященскую. Клир кафедрального собора переместился в кладбищенскую часовню, которая была приспособлена под алтарь, а прихожанам во время богослужения приходилось стоять снаружи на тропинках среди могил.
Настоятелем Скорбященской церкви стал прот. Александр Щербов. Кроме него и прот. Михаила Андреева ближайшими помощниками митр. Никандра в Ташкенте были протоиереи Петр Тихов и Димитрий Морозов. Представляя в 1930 г. к награде митрою прот. Петра Тихова, владыка характеризовал его так: «многополезный… в делах по управлению ташкентской епархией, усердно исполняющий возложенные на него поручения епархиального архиерея по делам духовного следствия, проповедничества, духовничества» (НА Уз. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 45. Л. 108 об.). Протоиерей Александр Щербов помогал архиерею в решении бытовых вопросов, а прот. Димитрий Морозов — при обучении народа церковному пению, при введении общецерковного пения за богослужением в храмах епархии (НА Уз. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 45. Л. 108 об.). За обычным, казалось бы, перечнем заслуг прот. Димитрия стоит многое. В то время введение общецерковного пения означало, что, вопреки противодействию властей, митр. Никандру удавалось на некоторых приходах наладить внебогослужебные занятия пением и проводить общеепархиальные мероприятия.
Церковное пение митр. Никандр очень любил и придавал народным церковным хорам большое воспитательное и просветительское значение. Находясь на Вятской кафедре, он составил и издал для способствования общенардному пению сборник в трех выпусках с пояснениями и постраничными комментариями («Слово жизни в богослужебных песнопениях Православной Церкви, избранных для общенародного пения» Изд-е 1. СПб. 1914; Изд-е 2. Вятка, 1917). В Ташкенте митр. Никандр также занимался гимнографией. В 1928 г. он отправил в Синод два акафиста — прп. Сергию Радонежскому и св. Иоанну Крестителю — с просьбою благословить их как «представляющие большую легкость и вразумительность по изложению для чтения и всенародного пения к употреблению при богослужении» (НА У з. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 45. Л. 20). 19 сентября 1928 г. Синод благословил их к местному употреблению. Условий для издания духовной литературы не было никаких, и несколько экземпляров акафистов были напечатаны в тетрадях ученического формата на тонкой голубоватой бумаге. Такую брошюру в конце 1920-х видел митр. Мануил (Лемешевский) у митр. Сергия
(Страгородского), отзыв которого он вспоминал через много лет, в 1957 г.: «Приходится радоваться за живую богословскую мысль, не покидающую членов Русской Православной Церкви. На днях из далекой Азии получил акафист преподобному Сергию, составленный Владыкой Никандром. Я просмотрел этот акафист. По размерам своим он значительно короче старого, язык его ясный церковно-славянский, неудобопони-маемых оборотов и слов не встречается. Вообще, акафист производит очень хорошее впечатление и радует душу человека» (Письма к свт. Афанасию, 2013, 594).
Самым главным в деятельности любого туркестанского архиерея в это время было реагирование на вызов обновленчества, которое в Средней Азии было особенно распространено. О методах противодействия раскольникам митр. Никандра известно из документов за авторством активистов обновленческой Среднеазиатской митрополии. В фонде митр. Никандра таких документов немало. Видимо, он собирал информацию из «лагеря противника» — кто-то составлял для него конспекты и/или снимал копии с докладов и донесений.
Один из таких документов — обрывочный конспект доклада, сделанного на обновленческом съезде в конце 1928 г. обновленческим функционером Стефаном Левицким. Доклад этот, целью которого было «дать отчет о методах тихоновщины», при всей его тенденциозности, все-таки помогает составить представление о том, как туркестанское духовенство ограждало свою паству от вреда, приносимого раскольниками. По словам Левицкого, «Никандр... взял иной курс в борьбе с обновленцами, и уже не говорит, что мы еретики, и даже тем, которые признаются, что бывают у нас в храмах, Никандр отвечает: „Бог с Вами, ходите, но смотрите, не исповедуйтесь и не причащайтесь у них“» (НА Уз. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 90. Л. 2). В Самарканде, согласно этому же источнику, уклонившихся православных владыка увещевал более резко и «внес смуту, называя нас еретиками, а иконы не иконы, а картины». Там же: «9–10 июня митрополит Никандр поехал в Коканд с целью примириться с обновленцами, вел себя очень корректно, нас не задевал, но его манера служить и проповедовать не произвела впечатления, и агитация не удалась, заманив немного» (НА Уз. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 90. Л. 3). Остальные заявления Левицкого касаются туркестанского староцерковного духовенства вообще: «священники и миряне принимают все меры, чтобы вылить всю грязь на нас», «приемы тихо-новщины против нас самые низкие», «угрожают чуть не отлучением», спрашивая мирян на исповеди, «ходил ли к обновленцам». На фоне этих обвинений митр. Ни-кандр в обращении с раскольниками и колеблющимися православными в описании Левицкого представлен сдержанным, вежливым, но вместе с тем и совершенно непреклонным и бескомпромиссным. Владыка не называл еретиками тех, кто этого не заслуживал, — в Туркестанской епархии было много полуобновленцев, которые сохраняли юлианский календарь, церковнославянский язык богослужения, неодобрительно относились к женатому епископату и требовали верности канонам, осуждая Сибирскую «Живую церковь» за радикальные реформы.
Деятельными помощниками митр. Никандра в борьбе с обновленчеством были никогда не уклонявшиеся от Патриаршей Церкви уже упоминавшиеся выше туркестанские и ссыльные священники Димитрий Морозов, Петр Тихов, Григорий Пеотро-вич, иеромонахи Рувим (Цыганков), Киприан (Нелидов), Александр (Неграмотнов), а также многие другие. Представляя в 1930 г. священников к наградам, митр. Никандр особо отмечал их заслуги в противодействии расколу: протоиерей Георгиевской церкви г. Самарканда Гордий Штурбабин «был на миссионерских курсах при Казанской Духовной Академии, по с[ему] усердный проповедник, ревностный борец за православие против „Живой Церкви“. <...> [Протоиерей Григорий Пеотрович] в последние годы своей духовной службы заявил себя борцом против обновленчества: в г. Мерве, благодаря ревности о. Пеотровича о православии, нет ни одной обновленческой общины, приходской храм благоукрашен, приходская община — примерная по единению с своим приходским пастырем. <…> [Протоиерей Димитрий Морозов] в сан протоиерея возведен Патриархом Тихоном в 1925 г. во внимание к общественной деятельности его в Ташкентской епархии, не имевшей ни епископа, ни епархиального управления и сильно подвергавшейся агитации живоцерковнического раскола» (НА Уз. Ф. Р-429. Оп. 1. Д. 45. Л. 108 об.).
Для противодействия обновленчеству митр. Никандр вел с представителями власти переговоры о возвращении церквей, давал обстоятельные ответы прихожанам, смущенным бесчинствами раскольников и самосвятов, разрешал целый ряд рутинных тогда вопросов о второбрачных священниках, о возвращении из раскола клириков и мирян. Большое значение в укреплении православия имели его поездки по епархии: есть сведения о визитах митр. Никандра в Куйлюк, Самарканд, Коканд, Высокое.
Владыке Никандру удалось вывести Туркестанскую епархию из кризиса, укрепить церковную дисциплину, наладить епархиальное делопроизводство, сохранять, насколько возможно было, храмы и приходскую жизнь. Он честно служил православию в Средней Азии до самой своей смерти. 3 марта 1933 г. он скончался в Ташкенте, отпевание совершил митр. Арсений. Не замеченная историками, деятельность сдержанного, скромного, терпеливого митр. Никандра не исчезла из памяти верующих Средней Азии. Господь устроил его могилу за алтарем Скорбященской церкви рядом с могилами двух других замечательных среднеазиатских архиереев — митр. Арсения (Стад-ницкого) и архиеп. Гавриила (Огородникова). Место это почитается верующими — оно стало главной святыней не только Боткинского кладбища, но и всего Ташкента.
Список литературы Ташкентский период в биографии митрополита Никандра (Феноменова). 1927-1933 гг.
- ГА АО — Государственный архив Алматинской обл. Ф. 483.
- ГАРФ — Государственный Федеральный архив Российской Федерации. Ф. 8409 (Фонд Е. П. Пешковой. Помощь политическим заключенным).
- ЖМП (1932) — Журнал Московской Патриархии. М., 1932. № 7-8.
- Журнал (1913) — Отдых христианина. Ежемесячный религиозно-назидательный журнал. 1913. № 17-18.
- Записка (2011) — «Забота о братском посещении арестованных» [Вст. статья, коммент. и публ. Н. А. Кривошеевой. Записка епископа Вятского и Глазовского Никандра (Феноме-нова) о находящихся в заключении священнослужителях 30 декабря 1918 г.] // Вестник ПСТГУ. Сер. II. 2011. Вып. 3 (40). С. 72-79.
- Материалы 1927 г. (2011) — Алчущие правды: материалы церковной полемики 1927 года / Сост., авт. вступ. статья свящ. А. Мазырина и О. В. Косик. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011.
- НА Уз — Национальный архив Узбекистана. Ф. Р-429 (Фонд митрополита Никандра).
- Письма к свт. Афанасию (2013) — Письма разных лиц к святителю Афанасию (Сахарову) / Вст. статья, примеч., подгот. текста О. В. Косик. Кн. 1: А-Н. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013.
- Письма Шика (2016) — Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века. Письма М. В. Шика (свящ. Михаила) и Н. Д. Шаховской-Шик. М.: Преображение, 2016. Т. 2.
- Фиолетова (1992) — Фиолетова Н.Ю. История одной жизни // Минувшее: Исторический альманах. М., 1992. Вып. 9. С. 7-105.
- Владимир Иким (2011) — Владимир (Иким), митр. По стопам апостола Фомы. Христианство в Центральной Азии. М.: М-Сканрус, 2011.
- Воронцов (2018) — Воронцов, В., свящ. «Была у архиереев по церковному делу, но контрреволюционной работы не вела.» Материалы к жизнеописанию святой мученицы Наталии Сиваковой и пострадавшего с ней церковного старосты Константина Конькова // Свет Православия в Казахстане. 2018. № 1-2 (март). С. 24-30.
- Зимина (2005) — Зимина Н.П. Викарии Уфимской епархии 1920-х годов: священномученик Вениамин (Троицкий; 1901-1937) // Ежегодная богословская конференция ПСТБИ: Материалы 2004 г. М.: ПСТГУ, 2005. С. 332-349.
- Лука Войно-Ясенецкий (1998) — Лука (Войно-Ясенецкий В. Ф, архиеп.) «Я полюбил страдание.»: Автобиография. М.: Изд-во им. Святителя Игнатия Ставропольского. М., 1998.
- Озмитель (2020а) — Озмитель Е.Е. Архиерей-послушник для Туркестанской епархии (к вопросу о назначении митрополита Никандра (Феноменова) на Ташкентскую кафедру в 1927 году) // Вестник ПСТГУ. Сер.: II. 2020. Вып. 97. С. 137-156. DOI: 10.15382/sturII202097.
- Озмитель (2020б) — Озмитель Е.Е. Туркестанская епархия при митрополите Ни-кандре (Феноменове) (1927-1933гг.) // XXX Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. С. 111-118.