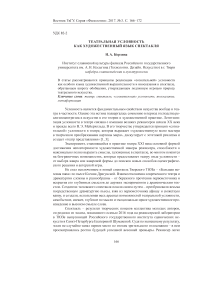Театральная условность как художественный язык спектакля
Автор: Корзина Нина Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются принципы реализации «сознательной» условности как особого языка художественной выразительности и иносказания в спектакле, обретающем широту обобщения, утверждающем подлинную игровую природу театрального искусства.
Театр, спектакль, "сознательная" условность, иносказание, метафоризация
Короткий адрес: https://sciup.org/146122067
IDR: 146122067 | УДК: 82-2
Текст научной статьи Театральная условность как художественный язык спектакля
Условность является фундаментальным свойством искусства вообще и театра в частности. Однако эта истина подвергалась сомнению в период господства ре-ализмоцентризма в искусстве в его теории и художественной практике. Легитимизация условности в театре связана с именами великих режиссеров начала XX века и прежде всего В. Э. Мейерхольда. В его творчестве утверждается принцип «сознательной» условности в театре, которая выражает «художественную волю мастера в творческом преобразовании картины мира», дискутирует с эстетикой реализма и создает «театр представления» [1, 3].
Эксперимент, становящийся в практике театра XXI века основной формой достижения неповторимости художественной манеры режиссера, способности к максимально полно выразить смыслы, заложенные в спектакле, во многом покоится на безграничных возможностях, которые предоставляет театру язык условности – от выбора жанра или жанровой формы до поисков новых способов сценографического решения и актерской игры.
Не стал исключением и новый спектакль Тверского ТЮЗа – «Большая меховая папа» по пьесе Ксении Драгунской. Взаимоотношения современного театра и драматургии сложны и разнообразны – от бережного прочтения первоисточника и вскрытия его глубинных смыслов до дерзких экспериментов с драматическим текстом. Создатели тюзовского спектакля пошли своим путем – преобразовали весьма посредственную драматургию пьесы, взяв из первоисточника афишу и сюжетную канву, и создали, использовав весь арсенал возможностей театральной условности, самобытное, свежее, глубокое по мысли и эмоционально яркое художественное произведение в высоком смысле слова.
Спектакль – результат творческих поисков коллектива молодых авторов, он родился из эскиза, показанного осенью 2016 года на режиссерской лаборатории в ТЮЗе выпускницей Российского государственного института сценических искусств в Санкт-Петербурге Екатериной Шумаковой. Судя по нынешнему результату, эскиз не случайно занял первое место по итогам зрительского голосования – в нем просматривались ростки будущей успешной весенней премьеры. Режиссер легко поднялась над текстом пьесы Кс. Драгунской, написанной в 2000 году и несущей на себе следы столичного интеллигентского снобизма по отношению ко всей остальной России – страны поселков с ткацкими фабриками времен Царя Гороха, на которых работают сплошь матери-одиночки и растят детей, даже не предполагающих, кто их отцы. О быте и нравах, царящих в российской провинции, напоминают «говорящие» фамилии детей, героев пьесы, – Зашкиркиной, Безобедова, Чмокина и Леденцовой, настоящих беспризорников. Отцы, понятно, либо по тюрьмам, либо по далеким стройкам. Если осознавать огромную обобщающую силу слова, то картина вырисовывается безотрадная, беспросветная и безвыходная.
Но это в пьесе. Авторы спектакля поняли бесперспективность в наши дни возвращения в театре для детей к унылой атмосфере переживавшей драматический кризис России и создали «фантастическую притчу» о детстве как таковом – с шалостями, играми, выдумками и жизненно важными проектами по решению главной детской проблемы – обретения гармоничного, целостного мира на Земле, основным кирпичиком которого будет семья – папа, мама, сын или папа, мама, дочка. И чтобы мама была счастлива и никогда не старела, а то у нее вон уже и седина заблестела в волосах. А еще чтобы рядом были верные друзья и какой-нибудь «меньший наш брат», о котором нужно заботиться – тепла сердца у этих героев на всех хватит. А еще – увидеть весь мир хоть в бинокль, хоть в телевизоре. Много о чем мечтается в детстве.
В спектакле рождается атмосфера любви и нежности к малой родине, без которой тоже не будет ощущения полновесности бытия. В ней живут добрые грустные мамы, которые растят замечательных детей – любящих, заботливых, совестливых, наделенных великим даром воображения и веры в чудо и в то, что их поселок – самое лучшее место на Земле. Не случайно звучит трогательный монолог одной из героинь спектакля – тихий гимн родному уголку, в котором и лес, и мох, и ягоды, и своя история, к которой эти дети по-своему приобщены. Если потребуется, то они расскажут, что здесь есть старинная усадьба, правда, уже разрушенная в годы экспроприации «сокровищ», парк и тайны, притягательные, пугающие и чарующие, будоражащие детское воображение, пробуждающие фантазии.
Но вернемся к точке отсчета в любом произведении – к жанру спектакля. Авторы отказались от авторского определения жанра Кс. Драгунской как «переживательной истории», потому что это мелодраматично и мелко. Жанр притчи выводит содержание и все театральные средства выразительности – от произнесенного особым образом, «сыгранного» слова, движения до цвета, света, музыки – на другой уровень – философского осмысления жизни. Поэтому этот спектакль, конечно, должен быть ориентирован не на возраст от 6+, а возраст от 0 и до бесконечности, ведь здесь решаются вопросы самоидентификации личности, возникающие на разных ступенях человеческой жизни, смысл которой – в изменении и движении, в бесконечном развитии, в поисках себя. Произведение, предложенное Тверским ТЮЗом, как говорил Х. К. Андерсен, «двухэтажное», то есть универсальное по содержанию, доступное и ребенку, и взрослому. Каждый найдет в нем что-то для себя, каждый вынесет из него смыслы, затрагивающие значимые струны души.
Как и всякая парабола, тюзовский спектакль начинается с предмета частного, далекого от его действительного замысла, с урока английского языка в школе. Замечательная, многогранная актриса М. Федотенкова создала гротескный образ «училки», случайно оказавшейся не только в поселке, но и в педагогике. К сожа- лению, образ грустно узнаваемый. На первый взгляд ничем не примечательный материал для перевода на английский язык, данный учительницей на уроке, оказывается глубоко значимым, т.к. в нем зашифрован начальный этап самоидентификации человека маленького и конечный – человека взрослого, обладающего ложными установками и ценностями. С учительницей, как говорится, все ясно – жизнь не удалась: работа раздражает, личного счастья нет, похудеть не удается, для того чтобы осуществить давнюю мечту – жить, как Мистер Браун, герой из ее упражнений, по которым предлагается осваивать английский язык, и там, где он живет, а не в каких-то Вошкиных Мошках или Шишкиных Пышках. Причем дети всё время вежливо поправляют учительницу, напоминая, что они живут в Ёжкиных Кошках, а не в каких-то там Англии или Америке. Кстати, этот неологический топоним, придуманный Кс. Драгунской, ‒ не что иное, как эвфемизм нецензурного ругательства, такой этический шлагбаум, срабатывающий после первых букв. Но если в логике пьесы это, хотя и завуалированное, но всё-таки ругательство, по крайней мере, для учительницы, то в спектакле название поселка перемещается, скорее, в мифологический план, потому что происхождением своим обязан хтоническому зверю славянской мифологии – коту Бабы Яги Баюну. Это создание портит судьбу того, кто с ним повстречается, а главное – не любит открытых пространств и гор. Тем самым название поселка в какой-то мере программирует судьбу героев до того времени, пока не придет им пора ее кардинально изменить и открыть для себя тайну и чудо зеленой горы.
Теперь о том, какую роль суждено сыграть Мистеру Брауну в спектакле. Почему он, действительно, так часто фигурирует в упражнениях для освоения английской речи? Объяснить это возможно, по всей вероятности, тем, что фамилия Браун принадлежит к числу самых распространенных среди англоговорящего населения и занимает пятое место по частотности использования, и поэтому для континентальной Европы она стала собирательным обозначением англичанина или американца, как в свое время эту роль активно играл дядюшка Сэм, олицетворяя США. Подобную роль Мистер Браун стал играть с 1930-х годов после появления фильма Герберта Уилкокса “Yes, Mister Brown!” (1933), который стал знаменит не столько сам по себе, сколько благодаря музыке к нему. Речь идет о джазовом фокстроте Пола Абрахама «How Do You Do, Mister Brown?”, состоящем из этого единственного приветствия, повторенного 44 раза разными героями фильма, служащими венской фирмы, заискивающими перед крупным американским бизнесменом Брауном в надежде подписать с ним договор о найме. После этого старта мистер Браун в сознании европейцев навсегда оказался связан с образом преуспевающего англо-американского дельца. Неслучайно поэтому он становится воплощением мечты учительницы о «красивой жизни». И, наверное, не повредила бы звучащая фоном мелодия этого фокстрота как звуковая реализация несостоятельных надежд.
В 1950 году в США появляется еще один Браун, ставший знаменитым на весь мир – Чарли Браун, хозяин забавного пса Снупи, один из главных персонажей серии комиксов Peanuts (Арахис), созданный Чарльзом Шульцем. Чарли Брауна описывают как милого неудачника, обладающего бесконечной решимостью и надеждой, но который постоянно страдает от своего невезения. Его преследует злой рок и неудача. Все, что бы он ни делал, заканчивается провалом. Первоначально Чарли Браун был озорным и весёлым, но вскоре превратился в персонажа-неудачника, по которому он и стал наиболее известен.
Следующий поворот в судьбе феномена Брауна связан с песней “Charlie Brown” – Джерри Либера и Майка Столлера, которая стала хитом рок-группы “The Coasters” 1959 года. В нашей стране она была очень популярна в 1970-е годы в обработке квартета «Аккорд» как «Малый Браун». Это песня о непоседе Чарли Брауне, которого все ругают и в школе, и дома, и вынужденном постоянно недоумевать: «Почему же все всегда придираются ко мне?»
Трансформация Мистера Брауна в милого озорника и чудака завершается в английском языке в 1970 году с появлением стихотворения детского американского поэта Доктора Сьюза «Мистер Браун-чудак» и оформившейся тогда же идиоме Charlie Brown tree , имеющей значение детского, не соответствующего стандартам качества дерева, выбранного ребенком в знак протеста против коммерциализации жизни и важных духовных ценностей.
В спектакле реализуются практически все смыслы этого феномена западной культуры – от воплощения учительской мечты о благополучии до появления Мистера Брауна как самостоятельного действующего лица в виде чудаковатого человека с бабочкой, напоминающего то ли пугало (как в пьесе), то ли домового, что тоже неслучайно. В этой функции Мистер Браун очень напоминает героя английского фольклора брауни, история которого началась еще в XVI веке. Это существо является символом домашнего уюта, представляя собой английскую вариацию русских домовых. Как у всяких домовых, у них свои причуды, но главное, что брауни могли быть замечены только теми, у кого было ясновидение. Говорят, что брауни помогают писателям, даря им сны с сюжетами для книг. Существует легенда, что они помогли известному писателю Роберту Льюису Стивенсону написать книгу «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».
Появившись в школьном упражнении, Мистер Браун в спектакле приобретает всё более метафизические черты: он воплотился в недостижимый идеал «англичанки», а потом на глазах зрителя стал раздваиваться на брауни-домового и Чмокина. Как уже говорилось, фамилия Чмокина принадлежит к числу «говорящих», но не в узко прикладном социальном смысле других «говорящих» фамилий, вроде Зашкиркиной, а в мифолого-поэтическом. В фамилии этого героя просвечивают, как минимум, два значения – чокнутого, то есть немного блаженного, немного Иванушки-дурачка, такого русского Чарли Брауна, невезучего, но целеустремленного, преданного своей цели озорного выдумщика. Ему суждено играть роль шута, но не горохового, а того самого, которому позволено было говорить всю правду: если получилось так, что Ларисе Владимировне выпало на долю стать «лысой зеленой макакой», значит, так оно и есть. Без злорадства, от чистого сердца он ей это и докладывает. А с другой стороны, он «чмокнутый», то есть богом поцелованный, отмеченный особыми дарованиями ребенок. Ведь только ему снятся особые, вещие сны, ему одному дарована способность вступать в контакт с привидениями – с обезглавленным, но вполне бодрым всезнающим, всевидящим и всеслышащим князем Ёжкиным-Кошкиным, который является хранителем, этаким «genius loci», духом-покровителем этого местечка, и с брауни-Брауном, домовым, который показывается только ясновидящим. Лишь ему, посвященному, они поведали о пути к чудесной горе, где водятся меховые папы. Свидетельством всамделишности этой встречи становится шахматная фигурка коня, на которую никто, кроме Чмокина, не обращает внимания. И ведь это не просто грезы и видения, а форма творчества, детского вдохновенного фантазирования, основанного на искреннем желании всех сделать счастливыми.
Чмокин в исполнении Алексея Измайлова вполне убедителен, и всё-таки хотелось бы пожелать актеру достичь большей тонкости, непосредственности, чудаковатости, чуть-чуть юродивости что ли и в то же время меньшей приземленности создаваемого образа, на котором держатся все смыслы спектакля. Особенно важна та мизансцена, когда он пытается поймать бабочку у себя за спиной – подарок брауни-Брауна – символ не только трепетности души, но и воскресения, возрождения, способности к трансформации и превращениям. Это должно быть, как представляется, выявлением тревожного, как наваждение, процесса ожидания, что вот-вот подтвердится свершающееся чудо обретения себя, откроется долгожданная правда о себе самом и мире вокруг.
Это все происходит уже в преддверии развязки, а кульминация спектакля связана с путешествием по реке прямо на север до Ферапонтовой бухты, от которой уже недалеко до заветной горы с зеленой поляной, где полным-полно пап. Этот эпизод спектакля – одна из самых больших удач всего коллектива авторов: скупые, но очень прозрачные по смыслам, подвижные, трансформирующиеся декорации на протяжении всего спектакля ненавязчиво подталкивают зрителя к пониманию происходящего. Но в этой сцене художник-постановщик Кристина Данилина и художник по свету Дмитрий Зименко (Митрич) добились феерических результатов, просто «эффекта Садко в подводном царстве»: удивительный свет, волшебные и в то же время очень точные цвета, плавно уходящая наверх лодка, пластичные движения актеров, играющих Чмокина и Леденцову, как при замедленной съемке создающих впечатление опускающихся на дно детей. А это уже заслуга хореографа Николая Насенкова.
Путешествие на зеленую гору по реке – это мифопоэтическое выражение идеи инициации Чмокина, испытания его как культурного героя, который своим пусть и неудачным подвигом всё-таки сделал попытку изменения мира к лучшему. Здесь пересекаются две мифологемы – Великой реки, воды которой преображают героя, даруют ему, как от живой воды, возможность преображения, и Великой горы, на вершине которой живут добрые богатыри или боги – долгожданные папы, которые, спустившись вниз, наделят всех ощущением гармонии, защищенности, надёжности, чувством уверенности в реальности счастья. Всех – мам, детей и их друзей.
Венчает спектакль дивный образ мифологического дерева, объединяющего в себе Мировое древо, Древо Жизни и Древо Познания, детское дерево Чарли Брауна. Это его настойчиво поливал Чмокин, вызывая у всех насмешки и непонимание, а дерево-то расцвело, потянулось ожившими ветвями к солнцу, зашумело листьями на ветру. Гора, река, дерево – все они знаменуют собой осевые, фундаментальные, вечные истины и ценности – жизнь, поиски смысла бытия, обретения себя, служения людям. Древо жизни знаменует смену поколений и их преемственную связь – от предков через ныне живущих к потомкам, т.е. семью, детей. Потому и засыпают в финале сцену плоды этих деревьев, и значение их многообразно, как разнообразны и сами плоды – яблоки и апельсины, которые воспринимаются и как подарки, и как символы, и как олицетворения потомства, детей.
Как-то очень скоро приходит сознание, что папы здесь и не самое важное. Ведь сокровище, на которое их можно было выменять, оказывается, не имеет материального выражения. Его искали-искали, а оно было глубоко в детских сердцах. Поэтому чудеса стали происходить задолго до 5 июня: прощение от учительницы было получено еще в мае. Парабола заканчивается, как ей и следует – опять чем-то частным, конкретным – появлением дядек с горы. Они очень-очень хорошие, пушистые, хотя и не белые. Кажется, и молоток в руках держать умеют. Короче – сгодятся.
Но главное чудо произошло в живых водах реки, у подножия зеленой горы, у дерева, которое откликнулось на зов детской души и живущей в ней веры в добро и ожило… В них и надо искать философские смыслы этой притчи о людях, которые взрослеют, постигая себя и мир вокруг, усваивая ценности жизни – любовь, самопожертвование, верность, надежность, согласие, понимая, как важны поступки, деяния, а не просто слова, пусть даже и красивые…
Эффекта фантастической притчи театр добился не столько введением снов, видений и игры воображения, сколько очень тонкими намеками, что все произошедшее, включая обретение потерянного рая, гармонии и веселья – это результат магии искусства. Конечно, во все это очень хочется верить, но напрашивается грустное чувство, что все ведь произошло понарошку, что все это игра актеров, иллюзия, которую создали художники. Но огромная заслуга театра состоит как раз в том, что это грустное чувство поселилось в душе зрителя. В этом спектакле – все волшебники, а не только Джульетта Джульбарсовна. Это просто замечательно, что все причастные к созданию спектакля умеют вызвать восхищение правдой чуда, которое они сотворили, которое одновременно является глубокой правдой жизни, внушить доверие к условностям театрального представления и значительности иносказания, заложенного в режиссерском замысле и воплощенном средствами искусства. Авторы ненавязчиво и деликатно уверили в том, что обязательно должна сохраняться дистанция между жизнью и искусством. Это позволяет ему не утратить своей независимости и самодостаточности и чудесности.
Главный «фокус» спектакля состоит в том, что его авторы постоянно поддерживали зрителя в сознании двойственности происходящего, создав своеобразный эффект «театра в театре». Как бы возрождая изысканный дух театральной живописи А. Бенуа и О. Сомова, любимым сюжетом которых было изображение актеров-масок, открывающих или закрывающих занавес, как бы приглашая приобщиться к таинству начинающегося спектакля или напоминая о том, что магия театра будет жить на сцене после завершения представления, авторы ТЮЗовского спектакля ввели образ человека на ходулях. Его функции оказались многообразны: это и олицетворение большого мира взрослых пред маленьким миром детей, что дало зрителю возможность сразу перестроить масштабы реальности и перевести их в масштабы театральности. Мгновенно осуществился акт магии, преобразившей взрослых актёров в детей. Это обещание чуда, которое обязательно произойдет не только с Чмокиным, но и со зрителем… Это наконец приглашение в таинственный мир театра, который всегда одновременно правда и неправда, а, вернее, игра в правду. Ходулист у занавеса – это символ площадного городского театра, маскарада, карнавала, того, что чарует, воодушевляет, но неизменно заканчивается, унося с собой за занавес тайну свершившегося чуда. Но он же обещает зрителю и возможность новой встречи с мечтой о празднике, раскрепощенной фантазии.
Список литературы Театральная условность как художественный язык спектакля
- Колесникова А. А. Специфика условности художественного языка в культурных текстах В. Э. Мейерхольда: автореф. дис. … канд. искусствоведения: 24.00.01/А. А. Колесникова; Мордовский гос. ун-т. Саранск, 2014. 23 с.