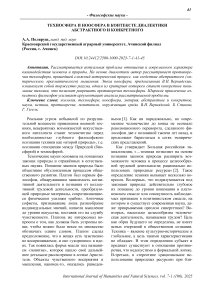Техносфера и ноосфера в контексте диалектики абстрактного и конкретного
Автор: Поляруш А.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 7-1 (106), 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается актуальная проблема отношения и современного характера взаимодействия человека и природы. На основе диалектики автор рассматривает противоречия техносферы, прошедшей сложный исторический процесс, как следствие абстрактного (эмпирического, прагматического) мышления. Эпоха ноосферы, предсказанная В.И. Вернадским, ознаменует собой торжество разума, одним из критериев которого станет конкретное понимание техники, что позволит разрешить противоречия техносферы. Широкое привлечение известных философов усиливает аргументацию анализа рассматриваемой проблемы.
Экология, техносфера, ноосфоера, эмпирия, абстрактное и конкретное, наука, истина, противоречие, позитивизм, окружающая среда, в.и. вернадский, б. спиноза, г. гегель
Короткий адрес: https://sciup.org/170210770
IDR: 170210770 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-7-1-41-45
Текст научной статьи Техносфера и ноосфера в контексте диалектики абстрактного и конкретного
Реальная угроза небывалой по разрушительной мощности применения военной техники, невероятных возможностей искусственного интеллекта ставит человечество перед необходимостью глубокого философского осознания техники как «второй природы», т.е. осознания отношения между Природой (биосферой) и техносферой.
Технические науки основаны на познанных законах природы и отражённых в естественных науках. Познание законов природы было объективно обусловленным процессом общественного развития. Платон был первым философом, обнаружившим зависимость когнитивной деятельности и познания от коллективной трудовой деятельности, преобразующей природные материалы, сопротивляющиеся физическим усилиям «рабов». Античные софисты, признававшие лишь разнообразие индивидуальных мнений, низвели мышление до уровня искусства, поставив его на службу чувственности. Платона же интересовал вопросом о том, как должны быть устроены вещи, чтобы можно было некое их множество обозначать одним словом. Платон сделал предположение, что в вещах есть чувственно не воспринимаемое, и оно «укоренено» в идеях. Так появилась форма мысли под названием «понятие», которое нашло своё дальнейшее детальное рассмотрение в логике Аристотеля. Объекты чувственного восприятия и мышления, наконец-то, оказались разведен ными [1]. Как ни парадоксально, но современное человечество до конца не осознало революционного переворота, сделанного философом две с половиной тысячи лет назад, и продолжает барахтаться в сетях эмпирических представлений.
Как утверждает Большая российская энциклопедия, «…техника позволяет на основе познания законов природы расширить возможности человека в процессе целесообразной трудовой деятельности; рационально использовать природные ресурсы» [2]. Такое определение техники вызывает несколько вопросов. Во-первых, что подразумевается под законами природы: действительно глубокое их познание до уровня понимания в платоновском смысле или совокупность наблюдаемых признаков в позитивистском смысле, на котором и существует современная наука, даже прикрываемая ореолом синергетики? Во-вторых, насколько целесообразна человеческая деятельность, называемая трудом? Цель как образ будущего не определена, не имеет ясных очертаний в общественном сознании. Техника - явление культурно-историческое и глобальное, а цель такими характеристиками не обладает. В этом определении субъект и предикат существуют в отношении противоречия, что недопустимо в формальной логике. В-третьих, в стереотипе «рациональное использование природных ресурсов» при бли- жайшем развёртывании обнаруживается определённый оксюморон.
Некоторые исследователи считают, что современная техносфера представляет собой уже наступившую ноосферу – техноноосферу и «в рамках каждой цивилизации решаются вопросы обеспечения энергией» и прочие экологические проблемы [5]. Правильное понимание концепции ноосферы отвергает локальный подход, вся суть ноосферы Земли заключается в её глобальном проявлении, где отсутствуют национальные интересы и, следовательно, военные конфликты, разрушающие планету. В этом же русле рассмотрения ноосферы как трансформированной техносферы выступают апологеты бескрайних возможностей искусственного интеллекта [6]. Эпоха ноосферы наступит ещё не скоро. Н.Н. Моисеев с определённой долей разумного пессимизма пишет: «Произойдет ли эпохальное событие – вступление человечества в эпоху ноосферы – явление бесспорно общекосмического значения, заранее сказать нельзя... [7]. Здесь Моисеев не расходится с Вернадским.
Однако как бы ни обожествлялась техника с её грандиозным потенциалом, трудно не замечать противоречия между необходимостью технизации и ее разрушительной силой, явленные экологическими и социальными проблемами.
Рассмотренные выше подходы, несмотря на их претензию на актуальность, прорисова- ны в координатах средневекового антропоцентризма. Сегодня такой трансформированной форме средневекового антропоцентризма провозглашается популярный особенно в западном мире экоцентризм, провозглашающий доминирование природы над обществом [7]. Это идеология, рассматривающая дикую природу как самостоятельную ценность, вне зависимости от человеческих критериев пользы. «Окружающая среда» утрачивает своё значение, волюнтаристски навязанное природе человеком. За природой признаётся субъектность. Следовательно, как и каждый субъекта, природа имеет цели и даже моральные права. В экоцентризме человек признаётся частью общей природы, как и все другие существа, и поэтому, сохраняя гармонию, уважает права других природных субъектов.
Даже при условии, что природа в экоцентризме наделяется субъектностью, необходимо учитывать то объективное обстоятельство, что в настоящее время лишь человеку присущ разум, поэтому из всех разнообразных природных сущностей только человек может регулировать свою деятельность и отношения с другими. Именно эта идея генерирована Владимиром Ивановичем Вернадским в его учении о ноосфере – эпохе разума в эволюции природы. Отсюда экоцентризм целесообразно рассматривать как производное антропоцентризма [9].
Круг замкнулся: никакие постмодернистские концепции не решают противоречий техники и технизации общества. Противоречие – диалектическая категория, поэтому и рассматривать феномен техники нужно с диалектических позиций. Если мыслить общество и природу как две противоположные сущности (человек и окружающая среда), то мы впадаем в декартов дуализм, преодолеть который удалось впоследствии Спинозе.
Как Спиноза приходит к монизму в философии, так и К. Маркс преодолевает эту проблему в идее Природы-субъекта, воплощённой в человеке, как «силе природы». Маркс наносит удар по традиционному антропоцентризму с его господствующим положением человека над «не-человеческой» природой, доказывая в полном соответствии с гегелевскими диалектическими законами и категориями, что человеческое есть конкретная, осо- бая форма природного, «в человеке мыслит сама природа» [10].
Неутихающие споры об особенностях техносферы в сравнении с другими глобальными сферами означают не вред технизации, а односторонность подходов к её рассмотрению. В координатах диалектики такой подход к рассмотрению предмета называется абстракцией. Гегель в работе «Кто мыслит абстрактно?» характеризует абстрактное мышление как ограниченное, упрощённое, не проникающее в сущность (содержание) явления [11]. Абстрактным мышлением обладает неразвитое сознание, необразованный человек. До конкретного понимания ещё нужно дойти, выявляя своим мышлением многообразные всесторонние свойства предмета, устанавливая объективные связи между ними. Истина всегда конкретна. Гегель предупреждает о вреде абстрактного мышления. Рассматривая противоречие как источник всякого развития, необходимо в анализ вовлечь всесторонние факторы: исторические, культурологические, политические, социологические, психологические, политические, экономические, духовные и т.д., увязать их в едином узле взаимовлияния и взаимозависимости. Собственно, Гегель говорит о системном подходе, идеи которого генерировали синергетику. Здесь уместно отметить, что основатели синергетики признают за Гегелем генерацию идей синергетики [12]. Диалектический подход к анализу предмета охватывает всё многообразие факторов, что упрямо игнорируется современным общественным сознанием, находящимся во власти позитивистской парадигмы. Могущество человека оказалось вне системной целостности. Человек возвысился над природой, присвоив ей унизительный статус «окружающей среды». Средневековый антропоцентризм не просто не сдаёт своих мировоззренческих позиций под давлением, казалось бы, очевидных объективных обстоятельств, но даже усиливает их техническими новшествами глобальной разрушительной силы. Человечество продолжает жить в своих ментальных иллюзиях, соревнуясь в мощности и дальности радиуса действия оружия, в тоннах золотого запаса, в баррелях изъятой из природных недр нефти, в процентах обогащения урана и прочих абстракциях. Когда-то природа может и напомнить о конкретном че- ловеке в таких формах, что мир наших представлений о мире в качестве «среды обитания» будет снесён вместе с нами [13]. Своё учение В.И. Вернадский основывал на эволюционном значении разума как конкретном, а не абстрактном понимании техники в содержании ноосферы.
Советский философ М.А. Лифшиц видит в буме вычислительной техники и математического языка проявление абстрактного мышления в высшей степени, поскольку, «выступая под знаменем точной научности, сначала квантифицируют все фактические отношения, а затем манипулируют полученными данными» [14]. Эта тенденция опасна обесцениванием духовных явлений. При жизни М. Лифшица ещё не было вымучено слова (не понятия!) «цифровизация», однако он подобрал более удачное определение для современной картины мира: «технобесие». Дух, понятый административной техникой не в его собственной природе, а в координатах материального мира представляет собой, в сущности, «ад Ильенкова» - советского философа, первым критически оценившим успехи кибернетики. Отстаивая сознательность сознания, в своем стремлении к абсолютной истине человеческий дух примыкает к бесконечному содержанию окружающего мира, т.е. к рассмотрению техники, возникшей и развивающейся по объективным законам, как конкретного. Оба философа в традиции, идущей от Спинозы, утверждают, что человек как мыслящее существо умеет действовать по объективной логике внешнего мира, в противоположность существу не мыслящему. Немыслящее живое существо осуществляет свою жизнедеятельность существо лишь по строгому алгоритму генетической информации, и изменение экологических факторов влечёт его смерть. Форма движения неживых тел определяется их собственной логикой, обусловленной физическими и химическими законами.
Виктор Арсланов, искусствовед и философ, последователь Э.В. Ильенкова, со свойственным ему поэтическим пафосом призывает: «Нельзя землю покорить, если вы сами не покоряетесь ее разумному порядку, постигнуть который - задача человека. Изменяйте мир, но только так, чтобы в вашей деятельности раскрывалось бы «абсолютное мышление»
Спинозовского Бога - природы [14]. О разумном порядке вещей говорит и Декарт. Разумно целое, а отдельный индивид подвержен разрушению души и тела.
И сегодня, как и столетия назад, необходимо осознать, что отношение техносферы и ноосферы - это в философском смысле отношение между телом и духом. Иными словами, необходимо видеть конкретную (всеобъемлющую, а не усечённую прагматическими соображениями) форму взаимодействия материальной и духовной деятельности. Это и есть сущность ноосферы, определяемая мировоззренческой позицией: удерживать в уме вто-ричность всего духовного по отношению к материальному. Диалектические отношения между идеальным и материальным занимали Гегеля. Как пишет С.Н. Мареев, эта закономерность была замечена в числе прочих философов и Э.В. Ильенков: «Мир вещей и мир духовный переходят друг в друга, отождествляясь и в то же время сохраняя свое гносеологическое различие» [15]. Отождествление не механическое, мертвое, абстрактное, навсегда утрачивающее диалектический переход мира вещей и мира духовного друг в друга, взаимодействия производительных сил и сознания. Основанием для этого вывода у Мареева являются известные слова Маркса: «Материя есть субъект всех изменений». Материя, но не мышление человека есть субъект всех изменений!
Особой актуальностью сегодня отличается тезис Спинозы о божьем благословении производства мощнейших видов вооружения. Правительства всех без исключения стран оправдывают наращивание военного потенциала религиозными постулатами. Автор «Этики» пишет: «…люди предполагают вообще, что все естественные вещи действуют так же, как они сами, ради какой-либо цели. Мало того, они считают за известное, что и сам Бог все направляет к какой-либо определенной цели… «абсолютное мышление» Бога отлично от человеческого разума… Человеческая душа во всех случаях, когда она воспринимает вещи из обыкновенного проявления природы, а не из бесконечной связи причин и следствий в бесконечной природе, имеет познание... смутное и искаженное ... [16]. Эта истина была познана гениальным Спинозой около 400 лет назад. Получается, что успехи технизации не побуждают человеческий разум выбраться из средневековой схоластики и только отдаляют наступление ноосферы.
С другой стороны, Спиноза своими рассуждениями о ложности человеческого познания отказывает биосфере в торжестве наступления эпохи ноосферы. Однако философ диалектически разрешает это противоречие. Только в активной жизни и активной деятельности формируется абсолютное (конкретное) мышление, тождественным с порядком вещей.
Мих. Лифшиц конкретизирует эту мысль Спинозы, подчёркивая, что человек в своей трудовой практике примыкает не к абстракции мира как целого, а к реальному материальному предмету. К постижению «истины всеобщего» на почве трудовой деятельности, в отличие от деятельности вообще, двигались К. Маркс, а также известный советский философ Э.В. Ильенков [17]. Труд - это преобразующая, опосредствованная, разумная деятельность. В деятельности людей отражается мир как таковой, вещи как таковые, независимые от человека, т.е. как конкретные. Иными словами: обычная деятельность управляется законами ближайшего предметного бытия, что характерно для любого животного. Человек же как единственное мыслящая часть биосферы управляется бесконечным миром, именуемого иначе объективной истиной. Так должно быть, поскольку общество как часть биосферы, хоть и мыслящая её часть, должно развиваться по законам целого - Природы.
Современный человек с его безмерной прагматичностью не подчиняется объективной истине, и в то же самое время с тревогой отмечает небывалый в истории масштаб вызовов и угроз, притворно не видя в этом явной причинно-следственной связи. Не техника как таковая угрожает цивилизации, а абстрактное её понимание. За десятки тысячелетий ничего не изменилось в предназначении и содержании технических устройств. Меняется лишь форма, включающая энергетическую мощь. Сколько ещё потребуется времени, чтобы разрешить противоречия между техносферой и ноосферой, как об этом мечтал Вернадский?