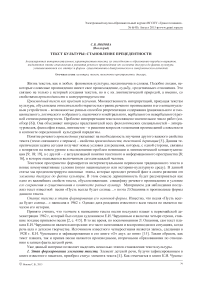Текст культуры: становление прецедентности
Автор: Ионова Светлана Валентиновна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 6 (40), 2015 года.
Бесплатный доступ
Анализируются интертекстуальные характеристики текста, их способность к образованию парадигм вариатов, выделяются этапы становления и развития речевого произведения от элемента дискурса до факта культуры, устанавливаются его статус и формы существования в диахроническом и синхроническом аспектах.
Культура, текст, текстовое пространство, дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/14822330
IDR: 14822330
Текст научной статьи Текст культуры: становление прецедентности
Принято считать, что толчком к написанию текста песни послужил плакат к первомайской демонстрации 1962 г, который был создан художником Е.И. Чарушиным и включал четыре строки, ставшие позднее припевом песни [2, с. 415]. В то же время, по воспоминаниям Л. Ошанина, сам текст плаката Е.И. Чарушина не является авторским: его часто вспоминали и воспроизводили в ситуациях, когда речь шла о детском творчестве. Источником известного четверостишия является запись, сделанная в 1928 г. К.И. Чуковским и зафиксированная в его книге «От двух до пяти» [15]. Таким образом, как текст плаката, так и припев песни являются производными, вторичными образованиями по отношению к записи факта детской речи.
Уже данный материал позволяет выделить несколько этапов становления текста культуры.
-
1. Этап формирования элемента текста. Элемент детской речи, будучи зафиксированным в книге известного писателя, приобрел статус элемента текста [4]. Как отмечается в книге К.И. Чуковс-
- кого, ребенок запомнил понравившуюся конструкцию «пусть будет» и создал на ее базе при помощи знакомых ему слов новые предложения [15].
-
2. Этап формирования самостоятельного текста. Будучи частью публичного текста, микротекст «Пусть всегда будет солнце…» стал объектом поэтического творчества поэта Л. Ошанина. Известно, что первым этапом создания любого словесного произведения является сформированная автором интенция.
-
3. Этап формирования прецедентности . Получение литературным произведением статуса прецедентного соответствует всем признакам прецедентного феномена: регулярная воспроизводимость, значимость для определенной общности людей, узнаваемость [10; 11].
Известно, что под текстом в лингвистике понимается развернутая [7] единица, большая по объему, чем предложение, обладающее свойствами цельности и связности [4], поэтому фрагмент текста может также рассматриваться как текст, а самостоятельные речевые произведения, объединяясь, могут образовывать более крупные единицы (сборники, рубрики, серии), в составе которых выступать лишь как элемент нового текста. Однако минимальный элемент (микротекст, сверхфразовое единство) и цельный текст имеют разный культурный статус. По мнению О.И. Москальской, первый из их – часть грамматики текста, понятие синтаксическое, второй – явление социально-речевое [13, с. 13]. Актуализация с оциально-культурной ценности микротекста может стать основанием для его выделения в отдельный текст .
В рассматриваемом нами примере становлению самостоятельного текста способствовал процесс его тиражирования в речи специалистов (филологов, педагогов), а позже более широко – в речевой практике людей, обсуждающих вопросы детского творчества. Интертекстуальные переносы в новые контексты закрепили социально-речевой статус данного микротекста, а использование его в составе синтетического (креализованного) текста плаката к первомайской демонстрации (в советское время, как известно, плакат носил идеологический характер и фиксировал ценностные ориентиры общества, поддерживаемые политикой государства) сформировало его ценностное содержание, которую можно сформулировать в помощью следующих тезисов: «наша политика – мир для наших детей», «мирная политика государства глазами детей» – и превратилось в международный лозунг борцов за мир.
По замыслу писателя, стихи на основе текста плаката должны были быть «серьезными», «совсем не детскими»: «Моя задача была в том, чтобы слова припева в каждом куплете поворачивались по-новому, звучали в разных аспектах, чтобы песня была многогранной, чтобы она выросла до настоящей песни о мире» [15]. Таким образом, вторичный текст должен был строиться на основе развертывания концептуального содержания слова «мир», которое в свернутом виде уже существовало в известных четырех строчках. Каждый из куплетов песни эксплицировал разные смысловые составляющие концепта «мир» в понимании, свойственном людям советской эпохи: мир для детей (« Это рисунок мальчишки »), мир как основная надежда взрослых (« И в тридцать пять сердце опять не устает повторять» ), мир, завоеванный в боях («Тише солдат, слышишь, солдат: люди пугаются взрывов!» ), миролюбивая политика государства («Против беды, против войны встанем за наших мальчишек» ). Развернутость и смысловая нагруженность являются приметами самостоятельного, цельного текста как лингвистического феномена [7, с. 25]. Образовав художественный текст, основанный на важном для всех культур концепте «мир» (соответствующий одному из жанров литературного творчества и предназначенный для восприятия массовым адресатом) на основе рассматриваемого нами микротекста, поэт придал ему статус социально значимого текста [12, с. 5].
История рассматриваемого нами текста свидетельствует о том, что этого этапа он достиг достаточно быстро: песня имела успех на конкурсах и фестивалях, ею удобно было заканчивать концерты, т.к. ее подхватывал весь зал, простые и емкие (плакатные) слова легко запоминались и воспроизводились, песня была переведена практически на все языки мира. Таким образом, текст приобрел все признаки прецедентности [3; 10; 18].
Формы существования текста в современном культурном пространстве. Как прецедентный текст культуры, стихи песни «Пусть всегда будет солнце…» Л. Ошанина входят в глобальное текстовое пространство, где они вступают в многообразные системные связи с другими текстами и образуют новые, производные тексты. При рассмотрении лингвистических феноменов в числе системных отношений выделяют синтагматический и парадигматический аспекты рассмотрения изучаемой единицы. Этот исследовательский принцип применим к анализу выбранного нами текста песни «Пусть всегда будет солнце…».
Мы предлагаем для систематизации многообразных текстовых явлений, вращающихся в пространстве культуры, выделять две оси интертекстуального действия: синтагматическую и парадигматическую [8, с. 7]. Синтагматическая ось интертекстуальности формируется связями произведений единого текстового пространства и состоит в апеллировании к готовым словесным образцам, включаемым в ткань нового произведения (аллюзии, прецедентные высказывания, цитаты и т.д.), для которых появились новые обозначения – « интекст» и « сверхтекст ». Парадигматическая ось интертекстуальности связана с переосмыслением первичного текста культуры, который дает жизнь новым интерпретациям, текстам новых жанров, построенным на базе известного произведения. В парадигматическом отношении речь может идти о базовом тексте и разнообразных манипуляциях с ним: актуализацией или реактуализацией компонентов текстового содержания (концепта), развертыванием или свертыванием, изменением оценочного характера и жанровой отнесенности и др. Такие тексты можно называть вторичными текстами [3, с. 3].
Линейные связи рассматриваемого здесь текста облегчены тем, что припев песни, сам по себе – единица воспроизводимая, кроме того, она обладает афористическим и символическим звучанием. Возможно, именно эти свойства в свое время привлекли внимание к данным словам К.И. Чуковского, художника Е.И. Чарушина, автора плаката, и авторов песни. В качестве ин-текстов фрагменты припева стали активно использоваться едва ли не с момента появления песни. Уже в газетах и журналах 60-х годов ХХ века они используются без ссылки на авторов и источник цитаты, используются в качестве названий публикаций, детских форумов, фестивалей, выставок, радио- и телепередач [2, с. 415].
Несмотря на то, что сегодня большая часть произведений культуры советского времени ушла в пассивный запас, перестала активно формировать фонд прецедентных текстов, строчки стихотворения Л. Ошанина не утратили своей известности и прецедентности. Анализ произведений современной беллетристики и текстов СМИ показал, что строки припева песни, как правило, используются без ссылок (свидетельство текстовой прецедентности) и часто порождают вторичные формы как результат трансформации и адаптации текста-основы. Основное свойство вторичных текстов – приблизительность их содержания по отношению к прототипу – проявляется в разной степени. Вторичные тексты, созданные на базе известного стихотворения, могут сохранять смысловую доминанту текста-основы и использовать его для утверждения значимости ценностной универсалии «мир» [19, с. 482]. Например: Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо! Пусть всегда буду Я в объединенном красотой, светом и любовью мире!» – его потрясло, что Бог Глеба был именно таким (Ю. Иванова. Роман «Дремучие двери»); Это небо Багдада… Но хочется, чтобы и оно было чистым, а глаза матерей счастливыми. Пусть всегда будет солнце, пусть повсюду будет мир! (Панорама,2004 № 39).
Как показывает материал исследования, лексические единицы прецедентного высказывания могут утрачивать свое концептуальное значение, символический смысл и в новом контексте реализовывать одно из своих значений без отсылки к базовому контексту. В данном случае прецедентное высказывание (текст) имеет статус ин-текста, вкрапления в иной текст (цитаты, аллюзии). Известно, что аллюзия функционирует благодаря сохранению двойной актуализации значений лексических единиц и апеллирует к восприятию одновременно двух текстов (исходного, ин-текстового и нового, включающего данный ин-текст) [1, с. 222]. Однако эффект двойной актуализации может нейтрализоваться, а прецедентное высказывание восприниматься однопланово под влиянием нового контекста его употребления. Например: Небо прохудилось и солнце исчезло. Хотелось взойти на возвышение, про- стереть руку вперед, в синеющую даль, и продекламировать смело и громко: «Пусть всегда будет солнце!» (Орская хроника); Пусть всегда будет солнце!! Температура +22 С, на небе ни облачка, прохладный ветерок, идеально ровное поле – в общем, все как всегда против наших футболистов!!! (Футбол, 2005 № 6).
Согласно словарю русского языка, в приведенных примерах в слове «солнце» актуализировано значение 2: Свет, тепло, излучаемые небесным светилом, в то время как в исходном контексте оно использовано в значении 3: То, что является источником, средоточием чего-то ценного, высокого, жизненно необходимого (высок.) [14, с. 648].
Многочисленные примеры использования строчек стихотворения Л. Ошанина в современных публикациях показывают, что прецедентные высказывания (тексты) часто входят в межтекстовое пространство благодаря своей форме. Как афоризм, краткое и точное изречение, строчки песни оказались удобными для выражения множества разнообразных значений, иногда лишь отдаленно передающих первоначальный смысл высказывания. Так, при использовании в качестве ин-текста в составе нового речевого произведения, известное выражение может стать отнюдь не носителем концептуального содержания, а генератором формы нового текста: Пусть всегда будет Солнце! Пусть всегда будет Небо! Пусть всегда будет «Милан» и полный стадион! (Футбол 2005 № 3); Слышал я, что не будет ни Януковича, ни Ющенко, ни революции апельсиновой, ни гранатовой, будет только Кучма. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет… (Усинский городской форум // cgi – bin).
Хотя и менее часто, чем текст припева песни, в современном интертекстуальном пространстве используются также строки ее куплетов. См., например: Хорошая игра. Хотелось бы, чтобы наши игроки успели осуществить свои планы. Но погода, возможно, нас разочарует… Тысячи глаз болельщиков в небо глядят, а их губы твердят , наверное, одно: «Только бы не было дождя в течение ближайших 10 минут» (Из телерепортажа, ОРТ март 2005); В Городском парке проходил ежегодный конкурс рисунков на асфальте « Cолнце – навек! Cчастье – навек !». Как всегда, в нем приняли участие маленькие художники всех районов Волгограда, решившие своим творчеством проголосовать за мир …(Пар-нас, июнь 2002) ; Выставка детского творчества « Это рисунок мальчишки » (Волгоград, 2000 г.),
Такие выражения узнаваемы, но в языковом сознании молодежи часто являются текстами со стершейся мотивацией (т.е. источник известных высказываний назвать сложно без специального изучения), о чем может свидетельствовать комментарий автора – корреспондента молодежной газеты, использовавшего ин-тертекстовый компонент в своей статье:
Стремление к миру, согласию, взаимопониманию объединяет всех людей мира и музыкантов, работающих в разных музыкальных стилях. (…) Так и хочется воскликнуть на прощание: «Спасибо фестиваль. Мы вновь вместе! Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я!» (для непосвященных заметим: была такая популярная детская песенка, слова которой стали лозунгом сторонников мира) (www. Музыкальная пирамида / Молодежный фестиваль / portal. ru).
Необходимость метатекстовых комментариев можно рассматривать как свидетельство утраты данным речевым фактом связи с прецедентным текстом и частичной потери самим текстом статуса прецедентного речевого произведения для определенной части читательской аудитории. Однако частотность его использования в качестве ин-текстов и основы для порождения вторичных текстов (пародий, переложений) говорит о сохранении его актуальности как речевой формы , удобной для воспроизведения. Усиление процессов деактуализации содержания данной единицы, утраты связи с текстом-источником, а затем и нерегулярность (слабая воспроизводимость) ее формы, вероятно, может привести к потере данным текстом статуса прецедентного текста и перевести ее (возможно, временно) в пассивный фонд текстов культуры.
Заключение. Итак, речевое произведение, появляющееся в конкретной коммуникативной ситуации и являющееся вербальной составляющей определенного типа дискурса, может рассматриваться как текст, когда оно оформляется в соответствии с нормами текстовости и выступает не только в качестве средства передачи информации, но и в качестве ее носителя (7: 34), т.е. выполняет, поми- мо коммуникативной, кумулятивную функцию. Не всякий утилитарный текст, создаваемый для решения конкретной коммуникативной задачи, приобретает статус текста культуры. Таковыми становятся произведения, имеющие социально-культурную значимость, основывающиеся на культурно значимых концептах, актуализирующие ценностные составляющие данной культуры. Сохранению текста способствует его регулярная воспроизводимость, узнаваемость, ассоциативная связь с другими произведениями культурного пространства. В результате новых интерпретаций, реинтерпретаций текста и использования его в новых коммуникативных условиях актуализируются элементы содержания и формы речевого произведения, которые выступают в виде стимулов, благодаря которым текст включается в новые текстовые объединения и продолжает оставаться активной частью культурного пространства.
Вопрос о степени допустимых трансформаций, которым может подвергаться речевое произведение, и широте его интерпретаций должен решаться с позиций лингвокультурологии и текстолингвис-тики. Что касается практики использования текстов, то здесь, как можно предположить, следует ориентироваться на выбор оптимальных форм представления информации, которые «не только достаточны, но и необходимы для решения коммуникативных задач» [17, с. 224], для формирования новой системы ценностей, отражающей особенности текущего периода развития культуры, и сохранения ее традиций.
Список литературы Текст культуры: становление прецедентности
- Алексеенко М.А. Текстовая реминисценция как единица интертекстуальности//Массовая культура на рубеже XX -XXI вв.: Человек и его дискурс. Сб. науч. тр. М.: Азбуковник, 2003. С.221-233.
- Берков В.П., Мокиенко В.М., Шулежкова С.Г. Большой словарь крылатых слов русского языка. М.: Русские словари, 2000.
- Вербицкая М.В. Теория вторичных текстов. Автореферат дис. … д-ра. филол. наук. М.: Изд-во Московского государственного университета, 2000.
- Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981.
- Голев Н.Д., Сайкова Н.В. К основаниям деривационной интерпретации вторичных текстов//http://lingvo.asu.ru/golev/articles/z89.html.
- Демьянков В.З. Интерпретация как инструмент и как объект лингвистики//Вопросы филологии, 1999. № 2. С. 5-14.
- Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст. М.: Эдиториал УРСС, 2001.
- Ионова С.В. Языковая личность в интертекстуальном пространстве//Научни трудове Русенски университет «Ангел Кьтчев». Т. 44. Сер. 6.2 Езикознание и литературознание, история, етнология и фолклор. Русе, 2005. С. 7-12.
- Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002.
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987.
- Красных В.В., Гудков Д.Б., Захаренко И.В., Багаева Д.В. Когнитивная база и прецедентные феномены в системе других единиц и в коммуникации//Вестник МГУ, Сер.: 9. Филология, 1997, № 3. С. 62-75.
- Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка//Известия РАН. Сер.: литературы и языка. Т. 52. 1993. № 1. С. 3-9.
- Москальская О.И. Текст как лингвистическое понятие (обзорная статья)//Ин. языки в шк., 1978. № 3.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка.-М.: Русский язык, 1986.
- Ошанин Л. Четырехлетний гражданин требует мира//Музыкальная жизнь, 1982. № 6.
- Петрова Н.В. Интертекстуальность как общий механизм текстообразования англо-американского короткого рассказа. Иркутск, Изд-во Иркутского государственного лингвистического университета, 2005.
- Сахарный Л.В. Тексты-примитивы и закономерности их порождения//Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. М.: Наука, 1991.
- Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты. Волгоград: Перемена, 2004.
- Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997.