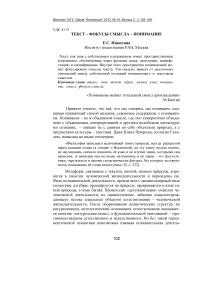Текст - фокус чувства - понимание
Автор: Никитина Елена Сергеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и практики исследований
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
Текст, как знак с собственным содержанием, имеет пространственные координаты, обозначенные через функции знака: денотацию, манифестацию и сигнификацию. Внутри этого пространства понимающий может фокусировать смыслы текста. Эти смыслы зависят от диалоговых отношений между собственной позицией понимающего и текстовым смыслом.
Диалог, знак, текст, образ, логика, язык, понимание, смысл, фокусы смысла
Короткий адрес: https://sciup.org/146122098
IDR: 146122098 | УДК: 81(23
Текст научной статьи Текст - фокус чувства - понимание
«Понимание меняет тотальный смысл произведения» М.Бахтин
Принято считать, что всё, что мы говорим, мы понимаем, смешивая привычный способ видения, усвоенное содержание с пониманием. Понимание – не в обыденном смысле, где оно синкретично объединено с объяснением, интерпретацией и другими подобными процедурами сознания, – связано не с самими по себе объектами природы, а с предметами культуры – текстами. Даже Книга Природы, согласно Галилею, написана на языке геометрии:
«Философия записана в величайшей книге природы, всегда раскрытой перед нашими очами (я говорю о Вселенной), но эту книгу нельзя понять, не научившись сначала понимать её язык и не изучив знаки, которыми она написана. А написана она на языке математики, и её знаки – это треугольники, окружности и прочие геометрические фигуры, без которых человеческому пониманию её слова недоступны» [5, с. 232].
Метафоры, связанные с текстом, книгой, языком природы, коренятся в смыслах человеческой жизнедеятельности и порождены ею. Язык познавательной деятельности, прежде всего дисциплинарный язык геометрии, алгебры, проецируется на природу, превращается в язык самой природы, в язык бытия. Происходит «дегуманизация» смыслов человеческой деятельности, их овеществление, забвение смыслопорождающего истока идеальных объектов естествознания – человеческой жизнедеятельности. После оборачивания семиотических структур, их натурализации, онтологическим основанием естествознания оказывается понятие «натуральная вещь», а фундаментальной оппозицией – противопоставление естественного и искусственного. Но без такой герменевтической семантики невозможна никакая познавательная деятель- ность, невозможно понимание. Позиция понимающего – особая позиция, и она отличается от позиции рефлектирующего.
Понимание, в отличие, скажем, от мышления, есть способ «схватывания» предметности изнутри. Если рефлексия позволяет нам различать прошлое, настоящее и будущее, распределять части сознания по этим большим областям. Если она делает людей разумными, мыслящими существами, но она же и ограничивает познание, преграждает ему путь образованием привычных связей в самом сознании.
«Рефлексия – очень опасная для сознания способность, при неправильном, неосторожном употреблении она может вообще уничтожить сознание как некоторое живое и реагирующее на окружающую действительность образование: категории могут заполонить и расчертить по строгим линиям восприятие, засхематизировать человеческий мир, отнять у него присущую ему гибкость и живость. … <…> И только с помощью прорыва из рефлексии в живой мир созерцания и действия, действия и созерцания человек оказывается способным познавать новое в окружающем мире, неотъемлемой частью которого он является. И рефлексия не позволяет нам увидеть сознание как функциональное образование в его специфической функции отображения» [4, с. 62–63].
От власти рефлексии можно ускользнуть и погрузиться в отображающий действительность мир сознания в его многообразных формах только через понимание.
«Понимая, мы не пытаемся делать из сознания теоретический объект, а воспринимаем его как “след” или “зеркало”, то есть, другими словами, рассматриваем его не “субстанциально”, а “функционально”. И тогда становится очевидным, что само многообразие начинает выступать объектом, хотя и значительно опять же отличающимся от того типа “теоретических объектов”, с которыми имеет дело естествоиспытатель» [4, с. 63].
С многообразием форм сознания имеет дело всякая гуманитарная дисциплина, использующая понимание в качестве своего метода.
Понимание как функция текста . Многие современные определения понимания [2, с. 90–93] опираются на одну простую и привычную идею: понять некоторый предмет – значит усвоить (постигнуть, открыть) смысл этого предмета. Но если «понять» означает «усвоить» смысл, то понять можно только то, что уже до процесса понимания обладает смыслом и, таким образом, имеет знаковую природу, будучи важным не самим по себе, а как выражение чего-то иного. При этом несущественно, что они представляют с материальной стороны: звуки, следы, пятна, картины или тексты. Важно то, что за знаками стоят значения, которые можно открыть и понять. Если же предметы, вещи, процессы лишены смысла, то, очевидно, их нельзя и понять, бессмысленно говорить об их понимании, осмыслении.
Какие же предметы наделены смыслом? По-видимому, только те, которые являются продуктами деятельности человека и в которые, следовательно, он мог вложить свои мысли, чувства, цели, желания, все то, что можно назвать смыслом. Сюда можно отнести всё, что испытало воздействие человеческого труда и хранит в себе отпечаток этого воздействия - смысл. Социальная функция предмета и есть его смысл -смысл, который можно открыть и, таким образом, понять, что это такое. Будучи «следами», знаки, разумеется, вполне материальным образом несут в себе смысл. Но здесь постоянно существует опасность «наделения» знаков смыслами, им не принадлежащих. Как показывают многочисленные исследования, понимание очень редко восстанавливает именно тот смысл и то содержание, которые закладывались в текст его создателями. В зависимости от принятого «способа деятельности» (а во многих случаях этот «способ» выбирается из ряда возможных) понимание выявляет в одном и том же тексте разные смыслы и соответственно этому строит разные поля и разные структуры содержания. Таким образом, понимание оказывается зависящим не столько от текста и производящего его мышления, сколько от более широкого контекста деятельности, в которую оно включено. Но это значит, что в процесс понимания текста должна входить ещё дополнительная процедура, реализующая эту зависимость и как бы «извлекающая» структуру содержания из объекта и операций практической деятельности. Именно поэтому такое решающее значение приобретает метод, или понимание, рассмотренное как чистый метод.
В отличие от рефлексии, выводящей предмет в деятельность, где он является внешним по отношению к другим составляющим деятельности, понимание соотносит его с иными компонентами текстовой организации ситуации. Через текст предмет получает субъективный статус своего бытия. Поэтому всякое понимание чревато непониманием, непониманием смысла, отличающегося от привычного для субъекта способа восприятия. Это внутренняя активность субъекта, соотносящего свою «картину» ситуации с «чужими» картинами и пытающегося примирить разные способы видения. Можно даже утверждать, что эта конструирующая позиция, учитывающая свою субъективность, и потому, вбирающая чужие смыслы для большей объективации своего - для утверждения своей «истинности». «Понимание всегда в какой-то мере диалогично», - писал М. Бахтин [1, 290].
Однако изнутри целостность не схватывается. Она может только конструироваться в виде текста (знака), отображающего предметную целостность. Понимание - это всегда переход от части к целому, переход от непонимания к пониманию, это «конструирование» целого, которого ещё нет или уже нет (в результате нашего непонимания). Это переход к такому целому, о котором мы не имеем представления до конца работы. Смысл есть результат понимания, но его нет в начале процесса. Он всего лишь дар за прорыв в новое смысловое состояние. Это всегда – «ага-реакция». Это всегда включение своего понимания, смысла, во внутрь текста.
Процедурами понимания выступают вопросы. Переозначивая понимаемую ситуацию, мы меняем смысл всего текста. Но как можно переозначить текст? Это вопрос игровых технологий. Для этого достаточно изменить хотя бы одну из базовых составляющих текста. Содержание текста дано через триединство его компонентов: предмета, понятия, языка. Из риторики нам известно, что любой текст строится на пространственном объединении трх реальностей: предметного содержания, понятийных (сюжетных) связей этого содержания и языкового (метафорического) содержания. Связь между этими единицами почти произвольна и задаётся только законами жанра, да и те, ради истины или красоты, могут нарушаться. Понимание же, как результат, предполагает инвариантность смысла не зависимо от изменения составляющих текста.
Но что можно не понимать в тексте? Для этого следует обратиться к его структурным составляющим: образу, понятию, языку. Их триединство означает, что с какой бы стороны мы не подошли к тексту, мы непременно выйдем на его содержание. Но всегда ли это содержание будет равно самому себе? Лингвисты прорывались к содержанию через язык, логики – через понятия, психологи – через образы. Однако понимающий занимает особую позицию между специалистами. Он проникает внутрь текста, производя перефокусировку смысла из своей «понимающей» позиции. Ведь проблема понимания возникает только тогда, когда понимание становится проблематичным, т.е. тогда, когда понимания нет. Текстовая традиция, в которой укоренён познающий субъект, составляет одновременно и предмет понимания, и его основу: человек должен понять то, внутри чего он с самого начала находится. В отличие от лингвистов, филологов, логиков или психологов у понимающего есть проблемы непонимания.
Итак, что можно не понимать в тексте, если ты уже подключён к его восприятию, вошел в «герменевтический круг». Во-первых, не понятен может быть язык: язык как семантическое образование. Так, смена стиля, перевод на другие языки всегда меняет смысл произведения. Во-вторых, не понимать можно сам предмет, его образ. Когда мы спрашиваем: «Что это такое?». Существуют такие денотаты, о которых мы не имеем достаточно ясного представления. В-третьих, не понимать можно логику, систему связок, образующих целое. Иначе, последовательность действий, операций, ходов и диспозицию в целом (связь времён, начало с концом).
Обратимся к примерам расфокусировки смысла в тексте. Примером языкового непонимания может служить следующий анекдот:
Ребёнок приходит к папе, протягивает ему надкушенное яблоко и спрашивает: «Пап, а почему яблоко темнеет?» Папа чешет в затылке, немного думает и говорит: «Ну, понимаешь, атомы составляющих воздуха взаимодействуют с атомами железа, находящегося в…» и т.д. Ребёнок затравлено оглядывается по сторонам и спрашивает: «Пап, а ты с кем разговариваешь???».
Примеры непонимания образности: когда приходится подбирать предмет через общее понятие, чтобы сохранить смысл текста. Иногда смена образа приводит и к смысловой сдвижке. Так, переводить пословицы и поговорки с иностранного (в частности, английского) языка на русский язык всегда тяжело. Это знает любой переводчик – как начинающий, так и уже довольно опытный. Нередко приходится подбирать эквивалент, который сильно отличается от оригинала, однако, с сохранением смысла высказывания. Англичанам-то понятно, что имеется в виду, когда говорят “When pigs fly”, а нам приходится судорожно подыскивать эквивалент – что же имеется в виду под этим «когда полетят свиньи»? Так как мы прекрасно знаем, что это невозможно, начинаем думать о русском варианте – что же невозможно? И, наконец, догадываемся: что-то произойдет, «когда рак на горе свистнет».
Есть поговорки и посложнее. «Cat in gloves catches no mice». Тут уже стоит призадуматься. Почему кот в перчатках не может ловить мышей? У него спрятаны когти! Не потрудится снять перчатки – останется без обеда. «Без труда не вытащишь и рыбки из пруда»!
Таким образом, мы видим, что при переводе поговорок и пословиц для полной и точной передачи смысла необходимо найти эквивалент через логические отношения, т.е. подыскать мыслительный инвариант образным взаимоотношениям. «A fly in the ointment» (дословно: «Муха в бальзаме»), перевод: «Ложка дегтя в бочке меда», «A penny soul never came to twopence» – «Пожалел алтын— потерял полтину», «A wonder lasts but nine days» – «Блины, и то надоедают», «All sugar and honey» – «Сахар Медович». Сравните: «All things are difficult before they are easy» – «Лиха беда – начало», «What you lose on the swings, you gain on the roundabouts» – «Нет худа без добра», «Scratch my back and I shall scratch yours» – «Ты – мне, я – тебе».
Смысл не привязан ни к языку, ни к конкретному образу, ни к логической схеме высказывания. Он – в точном соотношении всех трёх составляющих текста.
Про логическую последовательность можно привести следующие примеры. На одну и ту же ситуацию можно смотреть глазами собаки и её хозяина, мужчины и женщины, находясь внутри ситуации и снаружи и т.д. Чтобы быть преобразованной в текст, ситуация предвари- тельно схематизируется темами или мотивами, привлекшими внимание рассказчика. Так, К. Чапек [3] в рассказе «Поэт» описывает следующую ситуацию.
В четыре часа утра на Житной улице автомобиль сбил с ног пьяную старушку и скрылся, развив бешеную скорость. Молодому полицейскому комиссару Мейзлику предстояло отыскать это авто. Постовой не заметил ни номера машины, ни её марки, ни цвета. Нашлись два свидетеля: студент механического факультета и его приятель - поэт Ярослав Нерад. Когда произошёл несчастный случай, поэт расплакался, как ребёнок, и побежал домой. Студент же запомнил только то, что у машины был четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания. Пришлось в качестве свидетеля привлечь поэта, который, придя домой, написал об этом происшествии стихи.
«Дома в строю темнели сквозь ажур, Рассвет уже играл на мандолине.
Краснела дева.
В дальний Сингапур
Вы уносились в гоночной машине.
Повержен в пыль надломленный тюльпан.
Умолкла страсть. Безволие... Забвенье.
О шея лебедя!
О грудь!
О барабан и эти палочки Трагедии знаменье!».
В результате расшифровки образов, однако, выяснилось, что речь шла о происшествии с автомобилем именно на Житной улице («дома в строю темнели сквозь ажур»), автомобилем коричневого цвета («Сингапур»), с номером 235 («О шея лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки»), который сбил с ног пожилую женщину («повержен в пыль надломленный тюльпан»). Виновный в наезде был найден [3, 1928].
Что мы хотели продемонстрировать этими примерами? Во-первых, подтвердить мысль М. Бахтина о том, что текст есть драма, в которой участвуют три персонажа. Включаясь в текстовую деятельность, субъект при любых своих целях и замыслах в коммуникации, первоначально становится понимающим, т.е. входит в пространство чужого текста, где и производит собственные фокусировки. Структура текста-знака это позволяет. Любой текст представляет собой внутренне диалогическую структуру, ибо содержит в себе как явные, так и подразумеваемые апелляции к одним авторам, направлен против взглядов других, опирается на известные факты и положения или подвергает их сомнению. Недиалогический текст, если бы он был возможен, воспринимался бы или как полностью лишённый смысла, или как таковой, которому может быть приписан любой смысл, что практически одно и то же. Диалог же предполагает как включённость в культурный контекст, соотнесение с общей системой действий, так и расхождение с этим контекстом. Диалог оказывается невозможным, если все его участники только включают сообщения собеседника в свой привычный и фиксированный набор смыслов или стараются полностью воспринять способ осмысления, характерный для собеседника. Лишь частичный выход за пределы привычного позволяет найти какие-то общие моменты, обеспечивающие понимание. Такой выход всегда представляет собой единство разнонаправленных процедур: с одной стороны, выявление неожиданного, странного в сравнении с привычными способами освоения мира, с другой - отождествление неизвестного, непривычного с известным, традиционным. Поэтому понимание предстаёт всегда не просто диалогом, а столкновением «привычного» и «непривычного». Об этом так писал Бахтин:
«Доверие к чужому слову, благоговейное приятие (авторитетное слово), ученичество, поиски и вынуждение глубинного смысла, согласие , его бесконечные градации и оттенки (но не логические ограничения и не чисто предметные оговорки), наслаивания смысла на смысл, голоса на голос, усиление путем слияния (но не отождествления), сочетание многих голосов (коридор голосов), дополняющее понимание, выход за пределы понимаемого и т.п. Эти особые отношения нельзя свести ни к чисто логическим, ни к чисто предметным. Здесь встречаются целостные позиции, целостные личности (личность не требует экстенсивного раскрытия — она может сказаться в едином звуке, раскрыться в едином слове), именно голоса» [1, с. 300].
Сам феномен понимания обусловлен двоякой ролью любого знания. С одной стороны, оно предполагает собой фиксацию уровень знания является пониманием постольку, поскольку содержит в себе аспект оценки. Понимание есть процесс осмысления действительности сквозь призму определённых нормативно-ценностных систем общественной практики.
Для понимания необходимо расхождение, непонимание с предстоящим смыслом. Текст должен нести в себе самом диалогические обертоны, чтобы вступать в диалог с другим текстом. Если в нём все отношения стали однозначными, связи окаменели - текст превращается в цитату с навсегда закрепленным смыслом. И тогда с ним возможны любые коммуникативные взаимоотношения кроме диалогических. Такой текст можно заучивать, соотносить с иными трактовками, привычными интерпретациями, цитировать, но не понимать.
Денотация, манифестация и сигнификация - координаты знаковых пространств текста. Вступая во взаимоотношения, эти функции знака порождают смысл. Ведь смысл проявляется в структуре текста только как целостности, т.е. в диалоге. Сама же структура текста выстраивается вместе с выявлением смысла. определённого опыта, с другой - это есть результат реализации определённых целей, задач и установок опыта, которому служат знания. С этой второй стороны знание служит как бы оценочным фильтром для всякого последующего познания. Поэтому понимание не сводимо к описанию, объяснению, систематизации и другим функциям научного знания, оно неотделимо от оценочной деятельности сознания. Каждый