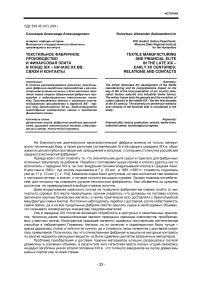Текстильное фабричное производство и финансовая элита в конце XIX - начале XX вв.: связи и контакты
Автор: Соловцов Александр Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается развитие текстильного фабрично-заводского производства и его всестороннее влияние на жизнь и быт местного населения нашей страны (образование фабричных пригородов и индустриальных текстильных поселков). Прослеживается генезис и эволюция хлопчатобумажного производства в середине XIX - первых двух десятилетиях XX вв., демонстрируется многообразие коммерческих связей и контактов финансовой элиты.
Финансовая элита, фабрично-заводское производство, пригород, текстильный поселок, индустриальный центр, технический прогресс
Короткий адрес: https://sciup.org/14940589
IDR: 14940589 | УДК: 338.45
Текст научной статьи Текстильное фабричное производство и финансовая элита в конце XIX - начале XX вв.: связи и контакты
На благополучие деятельности капиталистической фабрики влияла не только материально-техническая база, а также рыночная составляющая. В этой сфере в середине XIX в. образовался целый клубок противоречий, затруднений и вопросов, с которыми столкнулся российский среднестатистический фабрикант.
Прежде всего стоит отметить то, что значительная доля сырья и горючего для фабричных котельных закупалась за рубежом. Перебои с поставками сырья (пряжа и хлопок) удалось как-то восполнить к середине XIX в. за счет внедрения техники возделывания хлопка в Средней Азии. И все-таки в 1860 г. пуд хлопка оценивался в 7 р. 30 коп., в 1861–1865 гг. стоимость поднялась уже до 11 р. 10 коп. [1, с. 154]. Казахское сырье было доступным, но сам хлопчатник там оказался с плотными нитями, а значит, и готовое полотно выходило суровее. Однако главным потребителем, для которого так старались русские текстильные фабриканты, был обыватель со средним достатком, не привередливый в выборе отрезов полотна.
Даже возделывание казахского хлопка не позволило фабрикантам совсем отойти от импортного суровья. Его везли перекупщики, причем оказалось, что договоры на поставку хлопка заключали крупные банковские магнаты, а пряжу практически всю доставляли с Кренгольмской мануфактуры семьи Кнопов. Постоянно наблюдались перебои с доставкой, росла себестоимость самой пряжи, да и не все прядильные фабрики смогли закупать сырье в необходимых объемах, что сковывало коммерческую инициативу предпринимателей.
Уже в середине XIX столетия возникает потребность в доступных и качественных красителях, поскольку ранее промышленникам хватало природных красящих компонентов, приобретаемых у местных контор. Иностранные красящие пигменты оказались полученными синтетическим способом в лабораториях Германии, Австрии, но их качество и характеристики были лучше – краска держалась стойко и полотно не линяло, да и стоимость таких пигментов с доставкой оказалась приемлемой. Получалось так, что отечественные фабриканты вышли на выгодные контракты по закупке недорогих расходных веществ, но были сдавлены диктатом заграничных импортеров.
Проблема приобретения и доставки горючих материалов успешно разрешалась скупкой древесины в огромных объемах, в результате чего гигантская масса лесных угодий оказалась нещадно загублена уже во второй половине XIX в., что толкнуло заводчиков на скупку древесины разных сортов уже по всей стране.
В начале XX столетия фабрики прочно переходят на нефтяные «остатки», завозят себе мазут и каменный уголь. Парадоксально, но владельцы хлопчатобумажных фабрик совершенно не использовали торфяные залежи, которые находились рядом.
Заводчики старались продавать готовые ткани и полотно в сельской глубинке – данный торг являлся просторным, но не безграничным, часто зависел от объема выращенных и собранных на полях и в садах культур. К примеру, в 1877–1879 гг. наметилось явное увеличение количества проданной в селах ткани, поскольку главную роль сыграли три идущих подряд урожайных года [2, с. 116]. Лишь в конце XIX – начале XX вв. произошло формирование числа наемного люда, который уже окунулся в городскую жизнь и критически подошел к оценке свойств и характеристик ткани, ведь горожанин старался одеться наряднее. Со стороны государственных властей и органов управления уже закрепилось протекционистское направление в экономической политике, а местному бизнесу давалась огромная самостоятельность, но в ответ от заводчиков ожидалось, что те не ввяжутся в политические дела.
Изначально коммерческая жизнь кипела на сезонных торжищах и базарах, но с течением времени и по целому ряду объективных причин прежняя их роль свелась к минимуму. По мнению авторитетного экономиста М.И. Туган-Барановского, упадок архаичной ярмарочной торговли связан именно с развитием железнодорожной сети, поскольку выгоднее было сразу же везти полотно к покупателю, чем доставлять его на ярмарку, где ткань скупалась перекупщиками [3, с. 317]. Отныне большинство веских и значимых сделок заключалось в Санкт-Петербурге и Москве, где текстильные фабриканты открывали собственные конторы, назначали туда уполномоченных и торговых агентов. Минусом столь передового явления было лишь появление целой прослойки перекупщиков, сколотивших на маклерских услугах свое состояние. Именно из уполномоченных пришли в большой бизнес семьи Щукиных, Харузиных, Оконнишниковых. Никто из коммерсантов не желал делиться доходами с этими представителями, поэтому заводчики основывают глобальную систему хранилищ, адресов, офисов и контор по продаже готовых изделий в крупных городах по всей стране. Данные меры оказались очень результативными, поскольку поставили бок о бок продавца и покупателя.
Продолжила складываться система заводских представительств уже в условиях массового сооружения железнодорожных путей. Коренное влияние на развитие и складывание широкого внутрироссийского рынка оказала именно развитая система путей железнодорожного сообщения. Именно она помогла упрочению существующих финансовых связей и возникновению новых в среде промышленной элиты всей страны. Сырье и хлопок из одной части страны быстро перемещался в индустриальные центры, где обращался в пряжу и полотно. Значительно проще теперь стало заказать и вовремя дождаться реактивов и деталей к станкам, приобрести оборудование из-за рубежа. Изношенные станки часто выходили из строя, поэтому подавляющая масса фабрикантов старалась регулярно обновлять производственно-техническую базу. И лишь некоторые, приобретая износившиеся станки, рассуждали так: «За эту машину новую надо дать тысячи, а мы ее купили за гроши, поэтому пусть поработает» [4, с. 15].
Именно рост железнодорожной сети упростил пересылку финансовых документов. Все это сплачивало заводчиков в единое капиталистическое сообщество. Ускорилось и движение рабочих рук, а переезд из глухих деревень и сёл перестал быть чем-то фантастическим. Почему же молодежь устремилась в города? Дело в том, что все видели, что все краски жизни сосредоточены именно там, да и простых школ, читален, профессиональных ремесленных мастерских в провинциальных и маленьких городках практически не было, а значит, и получать ходовую, популярную профессию могли единицы. Земские учебные заведения при всей своей прогрессивности часто не могли вместить всех желающих учиться. Средств на их содержание хронически не хватало, а огромные города и индустриальные фабричные центры с отлаженной системой начального производственного обучения тянули к себе молодежь. Там сельские ребята становились мастерами лакокрасочного и набивочного ремесла, живописцами хлопчатобумажного полотна, рабочими по обслуживанию и ремонту прядильных, ткацких, граверных, слесарных станков. Крупная мануфактура или фабрика становилась местом производственного обучения для всей округи. Именно из таких мастерских и ремонтных цехов местный люд узнавал о последних инженерных, бытовых диковинках.
В нашей стране в 1880–1900 гг. возникло удивительное явление – стали формироваться текстильные поселки. Подобные населенные пункты образовывались около мануфактур, заводов, где помимо рабочих кварталов, благодаря поддержке самих фабрикантов, открывались больницы, школы и просветительные заведения. Такие поселенческие центры в будущем трансформировались в города. Уже в начале XX в. по количеству жителей и уровню социально-экономического развития они только юридически назывались станицами, деревнями и сельцом, а по масштабам не уступали старинным уездным городкам.
Среди заграничных путей продаж надежно удалось закрепиться в Иране, намного слабее – на китайских и афганских рынках. Именно в Персии русское полотно воспринималось покупателем ничуть не хуже британских товаров. Иранское население жило небогато, поэтому дешевая и далеко не идеальная ткань разбиралась охотно и хорошо. Текстильные коммерсанты робко попытались предложить свою продукцию населению Южной Америки, Африки и даже западно-европейских стран. Безусловно, что ждать емкой финансовой отдачи здесь было нельзя, а соперничество между текстильными предпринимателями шло огромное.
К сожалению, хлопчатобумажные промышленники практически не занимались тиражированием своей продукции. Относительно налаженной демонстрацией чего-то нового являлось вовлечение в коммерческие салоны, на которых можно было увидеть и узнать массу нового и передового, познакомиться с деловыми людьми. Но салоны проводились в таких городах, как Лондон, Париж, Вена, куда российские полотна и пряжа почти не попадали.
Ссылки:
-
1. Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. М., 1938.
-
2. Варенцов Н.А. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое. М., 1999.
-
3. История отечественной текстильной промышленности / М.В. Конотопов, А.А. Котова, С.И. Сметанин, С.И. Сметанина. М., 1992.
-
4. Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Т. 2. М., 1952.