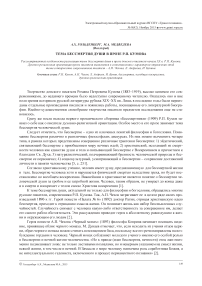Тема бессмертия души в прозе Р.П. Кумова
Автор: Гольденберг Аркадий Хаимович, Медведева Мария Александровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 8 (42), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются особенности реализации темы бессмертия души в прозе донского писателя начала XX в. Р.П. Кумова. Духовно-религиозная ориентация прозы писателя выявляется в сопоставлении с характером отражения этой темы в творчестве современников писателя - А.П. Чехова, Л. Андреева, И. Бунина.
Р.п. кумов, а.п. чехов, л. андреев, и. бунин, бессмертие, всеобщее воскресение, духовно-религиозная ориентация
Короткий адрес: https://sciup.org/14822399
IDR: 14822399
Текст научной статьи Тема бессмертия души в прозе Р.П. Кумова
Сразу же после выхода первого прозаического сборника «Бессмертники» (1909) Р.П. Кумов заявил о себе как о писателе духовно-религиозной ориентации. Особое место в его прозе занимает тема бессмертия человеческой души.
Следует отметить, что бессмертие – одно из ключевых понятий философии и богословия. Понимание бессмертия различно в разнличных философских дискурсах. Из них можно вычленить четыре типа, в рамках которых представлены совершенно различные трактовки бессмертия: 1) эйдетический, связывающий бессмертие с приобщением миру вечных идей; 2) христианский, исходящий из смертности человека как единства души и тела и связывающий бессмертие с Воскресением и причастием к благодати Св. Духа; 3) натуралистический, подчеркивающий бренность человеческой природы и бессмертие ее первоначал; 4) социокультурный, усматривающий в бессмертии – сохранение достижений личности в памяти человечества [5, с. 251].
Согласно христианскому учению, человек имеет душу, предназначенную для бессмертной жизни в теле. Бессмертие человека хотя и нарушается физической смертью вследствие греха, но будет восстановлено во всеобщем воскресении. Важнейшим в христианстве является понятие о бессмертии человеческой души за гробом и ее загробной жизни. Человек, таким образом, не умирает до конца даже и в смерти и воскресает с телом силою Христова воскресения [1].
К теме бессмертия души, актуальной не только для философии и богословия, обращались многие русские писатели, современники Р.П. Кумова. Так, А.П. Чехов затрагивает ее в целом ряде своих произведений 1890-х гг. Герой повести «Палата № 6» (1892) доктор Рагин, отрицая христианскую идею бессмертия, приходит к отрицанию смысла жизни. Он понимает жизнь как набор бессмысленных случайностей. Случайность снимает с человека какую-либо ответственность за совершенное им, делает его самого рабом обстоятельств. Эти рассуждения приводят героя к абсолютному равнодушию к жизни и окружающим его людям [2].
Героя повести А.П. Чехова «Черный монах» (1893) философа Коврина начинает посещать видение, принявшее облик черного монаха. М. Дунаев отмечает, что, если исходить из учения отцов церкви, образ черного монаха можно считать воплощением беса, поскольку все его речи направлены на возбуждение гордыни в человеке. Черный монах соблазняет молодого ученого именно его особой ролью в бессмертии и вечной жизни человечества. «Но к правде (идее бессмертия, вечности) отец лжи неизменно подмешивает ложь: не только льстивыми похвалами, но и неверным указанием на смысл жизни, всякой жизни, в том числе и вечной. В Замысле о мире человеку назначена роль соработника Божия, а не интеллектуального гедониста, включенного в процесс перманентного познания» [2].
Л. Андреев в повести «Елеазар» (1906) разрабатывает тему бессмертия, взяв за основу евангельский сюжет о чудесном воскресении Иисусом Христом Лазаря. Смерть, по Андрееву, есть нечто непознанное, навсегда скрытое от человеческого сознания. Рисуя портрет своего героя, Л. Андреев использует яркие натуралистические детали, такие как отвратительная тучность его тела, страшная синева лица. Взгляд Елеазара несет для окружающих людей разрушительную силу смерти. Писатель также создает страшный образ Бесконечного, которое поглощает все без следа. На смену жизни, по мысли Андреева, приходят пустота и необъятный мрак. Писатель, таким образом, отвергает христианское учение о бессмертии души и загробной жизни человека, вкладывая в евангельский сюжет прямо противоположный смысл.
Вопрос о жизни человеческой души после смерти был особенно важен для И.А. Бунина. Основываясь на библейской традиции, Бунин изображает смерть человека как возвращение его бессмертной души к Богу. Капитан, герой его рассказа «Сны Чанга» (1916), после смерти находит упокоение «в безначальном и бесконечном мире». Не останавливаясь на библейском толковании бессмертия, писатель часто следует традициям философии пантеизма, изображая смерть как двоякий процесс: с одной стороны смерть есть уничтожение человеческого тела, с другой – выделение в человеке нетленного начала (любви, мысли, духа, души, дыхания) – той субстанции, которая стремится к слиянию с божественным началом. Так, например, рассеивается в мире «легкое дыхание» Оли Мещерской после ее смерти («Легкое дыхание», 1916) [3, с. 41–42].
Р.П. Кумов, обращаясь в своих произведениях к проблеме бессмертия души, опирается в ее решении на христианскую традицию.
«Бессмертники» (1909) – сказка-аллегория о цветах, которые молились Господу о вечной жизни и услышали ответ: Кто желает быть бессмертным, пусть добровольно, во всей своей жизненной красоте – умрет. Умерший добровольно во имя красоты и бессмертия будет бессмертен!.. [4, с. 439]. Многие отказались, но те, которые по слову Господа умерли, получили бессмертие: Приходила осень, и за ней падали широкими пеленами снеговые хлопья, проносился жестокий вихрь и с корнем вырывал маленькие цветы, жгло июльское беспощадное солнце – они всегда были одинаковы: яркие, благоухающие, неясно, как греза, как далекая тонкая струна, звучащие. [4, с. 440]
В небольшом рассказе «В глуши» (1908) Кумов создает трогательный образ отца Григория, человека не от мира сего» , «старика-младенца» , который «в своем домике – среди необъятных степей – был маленьким образом, выхваченным из Евангелия, – кротким, наивным и святым [Там же, с. 155] .
Именно отец Григорий, взявший на себя подвиг молиться за весь мир, рассказывает своему гостю сказку о цветах-бессмертниках. Батюшка замечает, что и в нашей жизни есть люди, которые о вечной жизни молятся и, изнуренные подвигом, умирают [Там же, с. 156]. Таким образом, сказка о бессмертниках – народный отклик на евангельские слова: Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12; 24).
О таких бессмертниках , которые страдали и умерли, о тех, могилы которых остались без креста, о тех, которые озлобились и ожесточились в тяжкой борьбе, не зная устали молился сельский батюшка, исполнивший евангельскую заповедь «Будьте как дети», «таковых бо есть Царство небесное» (Мф. 19:14).
В очерке «Бессмертие» (1908) Р.П. Кумов показывает, как пробуждается в самом обыкновенном человеке сознание того, что в своей физической смерти человек не умирает до конца – его бессмертная душа продолжает жить. В городе свирепствует эпидемия тифа, и служащий торговой конторы Иван Калитин получает известие о болезни своего друга детства Гаврика Сосновского. Страх перед смертельной болезнью не пускает Калитина в больницу к умирающему другу. Калитин с ужасом размышляет о смерти: Смерть – это что-то грубое, тяжелое, как гильотина. Она опустится над его головой и его не станет... Земля будет также жить, солнце будет всходить и заходить, будут также торговать магазины, суетиться люди, а его не будет... Ах, какой он маленький, жалкенький – перед этою грозною смертью! Бежать, бежать куда-нибудь от нее, в какой-нибудь уголок, спрятаться и сидеть, сидеть... Лишь бы она не пришла!.. [Там же, с. 134].
В сознании Калитина рождается новое чувство – ненависть к самому себе за свой страх и животную привязанность к жизни. Он почувствовал себя рабом этой силы, и ему захотелось освободиться. Калитин посещает умирающего друга, делится с ним своей «победой над смертью» , убеждает его, что человечество победит смерть: Бессмертие – около. Оно в том, чтобы не признавать смерти, выкинуть ее из своего обихода. Пусть, действительно, там что-то есть, которое называется смертью, но пока я живу – я бессмертен! [Там же, с. 135].
К совершенно новому, более глубокому пониманию бессмертия, Иван Калитин приходит после смерти Гаврика, оказавшись на его могиле: Сам того не замечая, он разговаривал со спавшим под бугорком другом, как с живым. Он уже не был бессмертен так, как вчера и сегодня утром, гордым бессмертием духа, презиравшего смерть. Как-то раздвинулся его кругозор, куда-то вдаль, туда – за могилки, за крест, за смерть... Сделалась ясно, что и там, за гробом, что-то жило – таинственное, тихое, грустное, как ночное небо. Там колыхались дали, и в них были те, которые спали под могильными бугорками. [4, с. 136]. Калитин, таким образом, приходит к пониманию бессмертия, близкому к христианскому учению о нем.
Обретает твердую веру в бессмертие и доктор из рассказа «На кладбище» (1908). В пасхальную ночь герои рассказа посещают кладбище, где доктор делится со своим спутником сокровенными мыслями. Сначала он только мечтает о вечной жизни: Но почему же человеку, видящему перед собой каждый день болезни, страдания, смерть, – иногда не помечать об иной жизни, о бессмертии? [Там же, с. 262]. Однако уже тогда в его размышлениях звучит искренняя надежда на бессмертие и всеобщее воскресение: Спят покойники! – говорит доктор... – Природа воскресает каждую весну, отчего они никогда не воскреснут?.. Знаете, мне кажется, что их зима – смерть – только продолжительнее, чем зима в природе. И будет время, растопятся под весенним солнцем могильные бугорки, оживут покойники, засмеются – и какая тогда чудесная весенняя жизнь будет на земле! [Там же, с. 162].
Герой рассказа осознает, что сама мысль о смерти делает жизнь человека и все его начинания бессмысленными: Думай, люби, поднимайся высоко над миром и старайся окинуть очами все; а конец всегда один: смерть... Это скучно... Не говоря уже о том, что до безобразия несправедливо! [Там же, с. 163].
Очень значимую художественную роль играет в рассказе пасхальный хронотоп, приуроченность его основных событий к этому великому церковному празднику: В тон природе, воскресавшей, расцвечивающейся цветами, люди собирались праздновать свою весну: над миром поднимался, как призрак, день Воскресения и сыпал от себя во все стороны блестящие яркие искры... И куда попадали они, все светилось и горело, и неясная дымка бессмертия, как утренний рассвет, окутывала маленькую землю [Там же, с. 264]. Эти искры касаются и души доктора. Услышав праздничный звон, он уже не сомневается ни в воскресении Христа, ни в бессмертии человеческой души, ни во всеобщем воскресении: Христос воскрес... Вы верите? Нет? А я верю! Я верю!!! Это так хорошо, так смело, так полно глубокого таинственного смысла... <...> Смерть не берет всего. Все разумное, светлое, бессмертное остается <...> и будет время – вся земля проснется в одно утро разумною, светлою, бессмертною!.. Христос воскрес – это запев к той жизни. [Там же, с. 165].
В рассказе «На родине» (1907) также отчетливо звучит мотив бессмертия души. Преосвященный Иоанн, пережив тяжелую болезнь, возвращается в родной город, где подводит жизненные итоги. Жизнь прожита героем не так, как он мечтал прожить ее в юности. Архиерей глубоко чувствует вину перед Богом и перед людьми.
Герой Кумова, побыв «обыкновенным человеком» в последние месяцы своей жизни, в предсмертном видении возвращается к своему пастырскому назначению. Он видит Христа и ведет за собой народ «на какую-то высокую гору, которая светится вдали, как звезда». Евангельской символикой насыщено видение архиереем своей смерти. Ему представляется сухое, жаркое поле, на котором стоят желтые колосья и тихо шуршат, словно шепчут, и один колосок – он сам – стоит в степи, желтый, как золото, и покачивает задумчиво головкой <...> а косы уже идут <...> и желтые золотые колоски падают рядами [Там же, с. 154]. Пшеница – устойчивый символ человека в евангелии (ср. «...соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым» (Лук. 3:17), прообраз его будущего воскресения. С евангельской символикой связано и время смерти архиерея – конец июня, время жатвы.
Таким образом, тема бессмертия души становится лейтмотивом творчества Р.П. Кумова. Она заставляет героев писателя искать высший, религиозный смысл своей жизни. Ведь, по мысли писателя, жизнь, не имеющая продолжения за гробом, скучна и бессмысленна. Р.П. Кумов ставит своих героев в такие условия, которые позволяют им глубоко осознать нерасторжимую связь между идеей бессмертия души и христианской верой во всеобщее Воскресение.
Список литературы Тема бессмертия души в прозе Р.П. Кумова
- Булгаков С. Проблема «условного бессмертия» (из введения в эсхатологию)//Путь. 1937. № 52. С. 3-23. . URL: http://www.runivers.ru/upload/iblock/3dd/Put_N52__10.1936-03.1937.pdf (дата обращения 20.02.2015).
- Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVII-XX веках. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. . URL: http://www.mpda.ru/data/268/629/1234/Vera%20v%20gornile%20smneniy.pdf (дата обращения 18.02.2015).
- Карпенко Г.Ю. Творчество И.А. Бунина и религиозное сознание рубежа веков. Самара: Изд-во «Универс-групп», 2005.
- Кумов Р.П. Избранное/сост. В.И. Супрун. Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2008.
- Новая философская энциклопедия: В 4 т./Ин-т философии РАН, Нац. общ.-научн. фонд; Научно-ред. совет: предс. В. С. Степин, заместители предс: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. Т. 1. М.: Мысль, 2010.