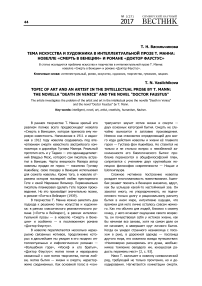Тема искусства и художника в интеллектуальной прозе Т. Манна: новелле "Смерть в Венеции" и романе "Доктор Фаустус"
Автор: Васильчикова Татьяна Николаевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Факультету культуры и искусства Ульяновского государственного университета - 20 лет
Статья в выпуске: 1 (27), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется проблема искусства и творчества в интеллектуальной прозе Т. Манна: новелле «Смерть в Венеции» и романе «Доктор Фаустус».
Интеллектуальный, роман, искусство, художник, творчество, гуманизм, нацизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14114235
IDR: 14114235
Текст научной статьи Тема искусства и художника в интеллектуальной прозе Т. Манна: новелле "Смерть в Венеции" и романе "Доктор Фаустус"
В раннем творчестве Т. Манна зрелый его реализм полнее всего предвосхищает новелла «Смерть в Венеции», которая принесла ему мировую известность. Написанная в 1911 и изданная в 1912 году новелла создавалась под впечатлением смерти известного австрийского композитора и дирижёра Густава Малера. Реальный прототип есть и у Тадзио — это одиннадцатилетний Владзьо Моэс, которого сам писатель встретил в Венеции. Черты внешности Малера автор новеллы придал ее герою — писателю Густаву Ашенбаху, свою поездку в Венецию использовал для сюжета новеллы. Кроме того, в новелле отражена история последней любви престарелого Гете к юной Марианне Вильмер. Первоначально писатель планировал сделать Гете героем произведения. Но это произойдет значительно позже, в романе «Лотта в Веймаре» (1939).
В творчестве Т. Манна можно заметить два подхода к решению темы искусства и художника: в рамках классического реалистического романа («Лотта в Веймаре»), в рамках интеллектуальной прозы — в новелле «Смерть в Венеции» и особенно — в послевоенном романе «Доктор Фаустус».
В новелле переплетаются несколько неразрывно связанных мотивов, продолжение которых в дальнейшем мы увидим в его поздних интеллектуальных и мифологических романах — «Волшебная гора», «Иосиф и его братья», «Доктор Фаустус»: мотив гения и неразрывно связанный с ним мотив творчества, мотив любви, мотив бытия — жизни и смерти, нерасторжимо соединенных. Как основной голос в «кон- трапункте» звучит мотив жизни и смерти — двух основных категорий бытия. Смерть не случайно выносится в заглавие произведения. Именно она становится определяющей для всего хода действия новеллы и жизни её главного героя — Густава фон Ашенбаха. Но ставится не только и не столько вопрос о неизбежной законченности его биологического бытия: проблема переносится в общефилософский план, сопрягается с учениями двух крупнейших немецких философов современности — Ницше и Шопенгауэра.
Сложное мотивное построение новеллы рождает многоплановость повествования. Ашен-бах решает поехать в Венецию внезапно, вдруг, как бы услышав какой-то настойчивый зов. Он захотел иного, не упорядоченного, не подчиненного только долгу и рациональному расчету бытия в ином мире, интуитивно ощущая, что времени для него лично осталось совсем немного. Как это обычно для людей, близких к своему концу, у него исчезает ощущение своего возраста, он почувствовал себя у истоков жизни, как бы начиная все заново, хотя на самом деле он не начинает, а завершает круг личного бытия. Когда он увидел странного незнакомца с посохом в руке, в дорожной одежде — посланца другого мира, его охватила жажда путешествия: «Неимоверно расширилась его душа, необъяснимое томление овладело им, юношеская радость перемены мест» [2, с. 93].
Манн Т. включает в новеллу символический ряд, требующий не только прочтения, но и декодирования. Нагнетаются коннотации смерти.
Первым сигналом приближающегося конца и становится появление странного незнакомца, посланца издалека, который дерзко отвечает на взгляд Ашенбаха.
Если рассматривать реальный план новеллы, Ашенбах едет в Венецию, на курорт Лидо, где до этого он уже бывал. Но в новелле есть мифологический план. Герой едет в мир смерти, по ту сторону бытия, по ту сторону Леты. Отсюда — нарастающий мотив разрушения, искажения, деструкции бытия. С этим связан мотив двух граней возраста героев новеллы — юности и старости: один начинает жизнь, другой ее завершает — это закон природы. Противоестественно выдавать старость за юность, как делает это молодящийся старик на пароходе. Ашенбах до последних сцен в новелле не вызывает неприятных чувств, так как не старается скрыть возраст, не рядится под юность. Но в финале новеллы, потеряв контроль над своими чувствами и действиями, Ашенбах тоже «омолодится» у парикмахера и наденет яркий галстук.
Следующим знаком, коннотацией смерти, является странный гондольер, который его перевозит через канал.
В реальном плане — это просто нарушитель закона, он работает без патента и поэтому скрывается, не взяв денег за перевозку, заметив преследователей.
В мифологическом плане — это перевозчик в мир иной, Харон, доставивший его в царство смерти. Оттуда Ашенбах услышал неслышный другим зов, который побудил его к путешествию и означал приближение конца его личного бытия. Коннотации смерти нагнетаются и усиливаются в финале картиной разгула смерти — в Венеции начинается эпидемия азиатской холеры. В пограничной ситуации между жизнью и смертью, в которой оказался он, оставшись в зараженном городе, обостряются эмоции и чувства, тянет к последним, запретным наслаждениям, ослабляется контроль разума и морали. С темой жизни и смерти неразрывно сплетена тема художника, искусства, творчества. Сопоставляются понятия живой жизни и воссозданной в произведении. Но Т. Манн говорит не об искусстве как таковом, а о декадентском искусстве рубежа веков, противопоставив ему классическую традицию античного искусства и творчества И.-В. Гете. В новелле звучит тема не просто творчества, а творчества модернистского, декадентского по форме и сути, сопряженного тоже с понятием энтропии (распада), деструкции бытия — то есть тоже разрушения и смерти. По первоначальному замыслу героем новеллы и должен был стать Гете уже в старости, в том возрасте, в котором он напишет «Западновосточный диван», цикл стихотворений, отразивших его увлечение юной Марианной Вильмер. «В новелле Томаса Манна мы видим традицию Гете, и прежде всего его “Западно-восточного дивана”», — отмечает А. А. Федоров [9, с. 41].
Герой новеллы Густав Ашенбах — писатель с мировым именем. В Германии «ведомство народного просвещения включило избранные страницы его произведений в школьные хрестоматии». В день своего пятидесятилетия он получает личное дворянство за «Историю Фридриха Великого». Но формальное признание и даже слава не могут изменить печальной истины: мир его творчества лишен внутренней жизни. Его творениям не хватало радости, им «не достает того пламенного и радостного духа, который и составляет счастье читающего мира». Комментарий автора объясняет внутреннюю механичность искусства Ашенбаха очень глубоко. Писатель не получил полного духовного развития, подчинив свою жизнь порядку и «смолоду усвоенной самодисциплине». Он ущербен — ущербно и его искусство. В юности он «не знал досуга и беспечной молодости…». В зрелости «он сделался образцово-непререкаемым, отшлифованно-традиционным, незыблемым, даже формальным и формулообразным»: такое нормированное искусство ассоциируется с классицизмом (не случайно упоминание имени короля Людовика XIV). Мертвяще-упорядоченным является искусство буржуазной эпохи, из которого изгнаны естественная радость жизни, стихия чувств и подлинный гуманизм. В образе Ашен-баха есть отдельные автобиографические черты, сближающие его с автором новеллы. Некоторую необычность героя, которого так же, как Тонио Крегера, героя одноименной новеллы, можно назвать «заблудившимся бюргером», Т. Манн объясняет генетически: чужеродным явлением в бюргергской среде, как и в семействе Маннов, была мать. Мотив биологической предопределенности жизни и судьбы личности проходит через всю новеллу. Необычное происхождение героя, его особая генетика породили его творческую одаренность: «сочетание трезвой чиновничьей добросовестности с темными пламенными импульсами породили художника» [2, с. 86]; «более быструю и чувственную кровь в прошлом поколении привнесла в семью его мать, дочка чешского капельмейстера» [2, с. 87].
Эта чужеродная кровь определила двойственность натуры героя: он подвержен страстям, но скрывает их и от себя, и от окружающих. При- неся себя и всю свою жизнь в жертву творчеству, Ашенбах отказался от радостей любовного и дружеского общения. Выросший в одиночестве, без товарищей, он остался одинок и в дальнейшем.
Символичен образ святого Себастиана в новелле. «Изящное самообладание, до последнего вздоха скрывающее от людских глаз свою внутреннюю опустошенность» — это сказано не только о Святом, подвергнутом мукам, но не изменившим себе, но и об Ашенбахе.
Принцип контрапункта применен Т. Манном уже в новелле «Смерть в Венеции», где в единстве переплетаются темы юности и старости, любви и смерти, цели и смысла жизни, возможностей человека и запретов для него. Но главным мотивом, подчиняющим себе все другие, в новелле является мотив искусства и его создателя — художника. Противопоставление мира искусства и живой жизни было выражено и в новелле Т. Манна «Тонио Крегер». Героев и той и другой новеллы автор назвал «заблудившимися бюргерами». Здесь вновь звучит тема бюргерства, которой посвящен первый роман Т. Манна «Будденброки». Он говорит о писателе Густаве Ашенбахе: «Предки его: офицеры, судьи и чиновники — служили королю и государству, вели размеренную пристойно-скудную жизнь» [2, с. 101].
Герой же посвятил себя искусству, стал писателем с мировым именем. Он создатель эпопеи о жизни Фридриха Прусского, романа «Майя», трактата «Дух и искусство». Он первый художник в роду Ашенбахов. В истории его рода происходит как бы определенный сбой. Густав Ашенбах — блудный сын своего класса, он, как и Ганс Касторп, Тонио Крегер, свернул с определенного ему положением семьи пути, не стал бюргером. Но, подчинив свое искусство тем же требованиям нормированной упорядоченности, он остался бюргером по сути. В своей жизни ему долго удается соединять эти понятия: упорядоченность и творчество. Есть «классические» способы самодисциплины: утренний труд, холодный душ, прогулка в парке, размеренная, воздержанная, уединенная жизнь. Но автор новеллы дает понять, что искусство — это нечто иное, чем только лишь размеренный труд. В античной мифологии было два бога искусства: Аполлон — бог выверенной гармонии, классической формы и Дионис — бог стихийного экстаза, творческого вдохновения. Об этих двух началах говорил Ф. Ницше — аполлоническое и дионисийское. Их показывает в новелле Т. Манн. Присутствует и авторская позиция: художник не просто рассказывает, но параллельно рассказу обсуждает и осмысляет проблемы, которые ему самому недостаточно ясны, решая их вместе с героями. Ведь и сам Т. Манн в определенном смысле, как и его старший брат Г. Манн, порвавший со своим классом художник, «заблудившийся бюргер». Осмысляя тему искусства, он пишет: «Искусство означает повышенную жизнь… даже при внешне монастырской жизни оно порождает такую избалованность, переутонченность, усталость, нервозное любопытство, какие едва ли сможет породить жизнь, самая бурная, полная страстей и наслаждений» [2, с. 103].
История его страсти к Тадзио — проверка этого утверждения. Чувство Ашенбаха проходит несколько стадий, определяя ритм новеллы: от восхищения, нежности, любования к лихорадочному, бурному, болезненно взвинченному состоянию неразделенной страсти, наконец, экстазу и смерти. Он испытывает удивление, увидев мальчика впервые, — неужели может быть такая абсолютная античная красота: «Это лицо, бледное, изящно очерченное, в рамке золотисто-медвяных волос, с прямой линией носа, с очаровательным ртом и выражением божественной серьезности напоминало собой греческую скульптуру лучших времен…» [2, с. 98]. При описании красоты мальчика использованы античные эпитеты: «богоподобная красота отрока», «любимец богов». Он размышляет о том, «какой отбор кровей, какая точность мысли были воплощены в этом юношески совершенном теле, какое совершенство» [2, с. 86].
Тема абсолютного совершенства, красоты преломляется и в облике Венеции — «Это чудо, этот из моря встающий город».
В античных канонах красота не разделялась на внешнюю и внутреннюю. Совершенство мальчика того же свойства: он очарователен не только внешне, но красиво и гармонично все его существо, каждый жест, каждая его реакция и поступок. Первоначальное нежное чувство к нему пожилого человека, который, находясь на пляже рядом со спящим ребенком, «как бы охраняет благородное дитя человеческое», — «отеческое благорасположение, растроганная нежность».
Осознание того, что это чувство к ребенку не только отеческое, приходит после его возвращения из неудавшегося побега, когда ему открывается правда его сердца: «Он почувствовал бурное волнение крови, радость, душевную боль и понял, что отъезд был ему так труден из-за Тадзио» [2, с. 96].
По мере развития действия новеллы усиливается мотив разрушения жизни. Ашенбах замечает вблизи, что ребенок физически слаб, у него слабые и неровные зубы, и с каким-то удов- летворением думает: «Он слабый и болезненный. Верно, не доживет до старости». Это как бы служит оправданием его собственной жизни, которую он организовал и прожил «правильно» и которая уже клонится к закату. Совершенство же недолговечно, оно является отклонением от «нормы». Наблюдая античное совершенство, явившееся ему в облике Тадеуша, он переживает разлад интеллекта и чувственности. Ставится вопрос соотношения искусства и жизни. Своему упорядоченному нормированному искусству Ашенбах пожертвовал свою жизнь. Но вот он видит совершенное создание природы, возникшее без участия художника-творца. Он пытается сблизить ту творящую силу, которая создает все и создала это совершенство, и свое собственное творчество, но величины несопоставимы. «Слово способно лишь воспеть чувственную красоту, но не воссоздать ее», — последняя мысль умирающего Ашенбаха в этой жизни, которая выносится автором как итог его размышлений о творчестве и художнике.
Повествование в новелле многопланово, вопрос о природе творчества и художнике ставится не только по отношению к данному герою, но и в философском плане. Сопоставляются и противопоставляются такие категории, как живая жизнь, подлинные страсти и искусство, которое их пытается изобразить. Автор задает вопрос о подлинном искусстве и формальном, декадентском, который будет вновь поставлен позже и в романе «Доктор Фаустус».
С 1901 года Т. Манн вынашивал замысел произведения о новом, современном Фаусте. К его воплощению он приступил только через сорок с лишним лет, находясь в антифашистской эмиграции в США. Как промежуточная фаза между замыслом и его реализацией может рассматриваться его автобиографическое эссе «История доктора Фауста» (1947). Название не имеет прямого отношения к средневековой народной книге о чернокнижнике докторе Фаусте. Эссе фиксирует, во-первых, процесс написания романа самого Т. Манна и, во-вторых, ключевые моменты текущей войны, что очень важно отметить, так как реальное время будет присутствовать и в романе «Доктор Фаустус». В своем дневнике Серениус Цейтблом представляет историю героя на фоне истории его страны в период Второй мировой войны. Сообщалось о продвижении советских войск, о высадке союзников во Франции, о казни Муссолини и бомбардировках Берлина. Тем самым повествование коснулось всех стадий разгрома Третьего рейха, вплоть до штурма рейхстага. Можно за- метить, что даже в жанре эссе писатель соблюдает принцип двуплановости повествования, положенный в основу всех его интеллектуально-мифологических поздних произведений.
Современный план повествования как в эссе, так и в самом романе составляют события немецкой истории периода нацизма, который продлился 12 лет и прерван был, к стыду нации, не самими немцами, а военными действиями объединившихся против этого мирового бедствия союзников, включая СССР. В письмах писатель прямо определяет свой «комплекс вины» за позор развязавшей две мировые войны Германии. В романе «Доктор Фаустус» этот комплекс вины переживает повествователь-хроникер Серениус Цейтблом, что определило колорит и настроение всего повествования.
Пространственно-временная многослойность в романе очень сложная: присутствует прошлое героя — Адриана Леверкюна от детских лет до момента повествования, когда он, взрослый музыкант, находится на вершине мировой славы; присутствует историческое время — дневник ведется Цейтбломом в режиме реального времени — конца Второй мировой войны, когда немецкие города подвергнуты авианалетам; присутствует мифологическое время — в подтексте романа таится легенда о Докторе Фаусте, созданная народной фантазией именно на немецкой почве, неоднократно обработанная в литературе, например, английским драматургом, современником Шекспира, Кристофером Марло. Самое грандиозное произведение на эту тему — философская трагедия И.-В. Гете «Фауст».
Первооснова этой старинной легенды о сделке человека с силами тьмы сохраняется во всех литературных версиях, но причинноследственные связи всегда различны. Ценой сделки всегда является душа — бессмертная сущность человека, но изменяются причина и условия сделки. Фауст в трагедии Гете продает душу за то, чтобы познать истину и подлинную цену жизни. Сделка им выиграна, силы зла не властны над душой человека, отдавшего свою вторую жизнь созиданию и гуманным деяниям на благо человечества. В романе Т. Манна выдвигается совсем иная цена: здесь вновь и с новой силой речь идет о ценности творчества, искусства и художнике-создателе. Трагедия «нового Фауста», гениального композитора Адриана Леверкюна, заключается в невозможности реализовать свой талант в эпоху, в которой он находится. Время накануне и во время Второй мировой войны требует маршевых ритмов, не нуждается в классическом искусстве. Более то- го, гуманистическое искусство откровенно объявлено врагом национал-социалистами. Справедливо утверждение А. В. Карельского: «Фашизм в 30-х годах предпринял почти беспрецедентную в истории культуры попытку тотальной насильственной перестройки самой субстанции художественного творчества — духа критического познания, лежащего в основе всякого подлинного искусства. Взамен внедрялась в качестве основы “нового искусства” идея безоговорочного подключения к политике государственной власти…» [5, с. 320].
Герой в романе «Доктор Фаустус» ценой своей души покупает у искусителя время творчества — «двадцать сумасшедших лет». Это его личное, купленное время — еще один пласт повествования в романе, отделенный от всех других. Здесь, как и в романе «Волшебная гора», тоже ставится своего рода эксперимент, цель которого — ответить на вопрос, что такое творчество, каким должен быть художник, каковы цель и задачи искусства. Повествование и ответы на эти вопросы двоятся — нелегко понять, что подлинное, а что ложное в творческой программе Адриана. Для этого потребовалось создать экспериментальную «площадку», преимущественно это изолированная комната Адриана, где он работает. Периодически это пространство выносится на суд публики — он выступает с концертами, ездит в турне, становится композитором с мировым именем. Он заключает сделку с силой разрушения ради того, чтобы состояться как художник и реализовать свои замыслы. Ради славы в том числе. Но не ради гуманизма, не ради искусства, нужного человечеству, приносящего ему здоровую силу духа, каким является музыкальное искусство великого Людвига ван Бетховена. Ле-веркюн — не только новый Фауст, он претендует занять место Бетховена, затмить его своей, новой музыкой. Принципиально важный вопрос о характере его музыкального искусства по-разному решался двумя известными литературоведами — А. В. Русаковой и А. А. Федоровым еще в 80-е годы прошлого века. Мнения разделились — Адриана расценивали как декадентского виртуоза (Федоров) и как гения музыки (Русакова).
Вопрос о гуманизме звучит в романе с новой силой и на новой основе. Бесчеловечная эпоха нацизма дала ответ на этот вопрос в идеологии нацистов, в реальной практике холокоста и концлагерей, в самом праве распоряжаться жизнью на земле, которую присвоили представители нового режима [4, с. 7].
«“Любовь” плюс “гуманность” — вот учение, разлагающее все жизненные принципы и жизненные формы народа и государства», — писал в книге «Мифы ХХ столетия» идеолог нацизма Людвиг Розенберг [5, с. 321].
В романе явившийся к Адриану дух зла выглядит вполне реально и очень современно — он похож на одного из фашиствующих молодчиков, обычный крепкий парень с улицы, и только звериные лапы, покрытые рыжей шерстью, указывают на его нечеловеческую сущность. В таком же обыденном обличье явится дух зла к Ивану Карамазову, чтобы обсудить с ним вопрос о том, действительно ли все дозволено. Дьявол в романе «Доктор Фаустус» вступает в дискуссию тоже о гуманности, но здесь это связано с вопросом об искусстве, выражающем гуманность и воздействующем на людей, пробуждая силы их души. Вот такое искусство, с точки зрения искусителя, подлежит искоренению. Не будет души ни в человеке, ни в его творениях, при этом может быть замечательное мастерство, безупречная форма. Но не будет любви к людям. Понятие любви здесь обыгрывается вновь и на ином, чем в прежних произведениях Т. Манна, уровне. В новелле «Смерть в Венеции» сближаются понятия «любовь», «болезнь», «смерть». Здесь эта тенденция усилена. Леверкюн болен, по тем временам неизлечимо. Страсть толкнула его к гетере Эсмеральде — мифической и реальной одновременно. Хотя он был предупрежден о запрете, это его не остановило. Вот почему дьявол называет ее «первой посланницей ада». Тема болезни развивается на протяжении всего повествования: болен он сам, больно и его искусство. Болезнь не только разрушает его физически, но постепенно опустошает его душу, делая его лишь пустой оболочкой. Такое существо создать живое искусство — музыку, равную музыке Бетховена или Моцарта, проникнутую любовью, радостью жизни и гуманностью, — не может. Но искуситель дает ему технически непревзойденное мастерство. Вот почему следует признать, что интерпретация профессора А. А. Федорова более убедительна: Адриан — декадент, создающий искусство формотворческое, не имеющее души, не содержащее ни гуманности, ни любви. Вполне закономерно, что ценой за триумф и славу является любовь как высшая духовная способность человека. Адриану «заказано любить», и он об этом знает, так как это одно из условий сделки. Не поверив, осмеливается полюбить сначала женщину — Мари Роже, принося этим несчастье. Не поверив вновь, осмеливается полюбить ангелоподобного мальчика Непомука. Прототипом этого ребенка является любимый внук Т. Манна — Фридо. Чу- до-ребенок не только абсолютно красив, но и незлобив, он естественный и прелестный. И не вняв предупреждению, Адриан губит его, ангел света гибнет в муках, ничем им не заслуженных. Гибель ждет и самого героя. Духовная гибель, собственно, уже произошла. В финале романа показана его физическая медленная гибель. Приобщившись через гетеру Эсмеральду «к аду», он заболевает вялотекущим многие годы сифилисом, теряет не только физическое здоровье, но и свои когнитивные функции. Сначала — регулярные мучительные мигрени, в конце — безумие.
Подобно Ф. Ницше, он еще долго будет оставаться живым, но перестанет быть мыслящим человеком. В финале старая мать сидит у постели своего безумного сына. В дневнике Цейт-блома фиксируются последние трагические для Германии дни войны. Критики установили связь образа Леверкюна с философией и самой личностью Ф. Ницше — немецкого гения, ставшего орудием тьмы. Философию Ницше нацисты использовали в целях пропаганды избранности арийской расы [3, с. 6].
Можно заключить, что форма интеллектуального романа позволила писателю очень глубоко и на разных уровнях раскрыть тему искусства и художника. Интеллектуальный роман — порождение определенной эпохи, а именно — первой четверти ХХ века, когда кризисное состояние общества сделало невозможным изображение его в классических формах. Поиск новых форм в литературе явился отражением поисков человеком выхода из кризисной ситуации. Появилась потребность осмыслить свое положение в шатком и утратившем твердые основы мире. Для этого писатели обращаются к опыту человечества, накопленному в прежде созданных художественных текстах еще в период дописьменной литературы, — к мифам, фольклорным произведениям. Так устанавливается коммуникация между современным человеком и опытом его предков, отраженным в текстах. В кризисную эпоху ищут ответ на вопрос, как следует жить и поступить, обращаясь к уже бывшему прежде.
Интеллектуальный роман воплотил и реализовал потребность не только в изображении реального мира, но и в интерпретации общих законов бытия, отраженных в сегодняшнем состоянии реальности. В характеристике романа такого типа уместно использовать и такие определения, как «философский», «мифологический». Рождение интеллектуального романа происходит не в одной конкретной стране, а но- сит мировой характер, что особенно выразилось в литературе Германии в творчестве крупнейшего писателя современности Томаса Манна. Его перу принадлежат такие выдающиеся образцы интеллектуальной прозы, как романы «Волшебная гора», «Доктор Фаустус», тетралогия «Иосиф и его братья», новелла «Смерть в Венеции». Т. Манн полемизирует с восприятием его произведений только как сатиры на нравы общества, указывая во вступительной статье к роману «Волшебная гора» на его универсальнофилософский характер. Форма интеллектуального романа дает возможность расширить рамки пространства и времени в произведении. Человек представлен в трех ракурсах: как реальная личность, как член общества и как представитель рода человеческого. Во всех трех ракурсах он показан в процессе становления и поиска смысла бытия, цели жизни, подлинного искусства, абсолютного чувства. На пути своих исканий герой может ошибаться и заблуждаться, но никогда не прекращает решать эти глобальные проблемы, которые касаются всего человечества, от решения которых зависит дальнейшая жизнь на земле. Эти вопросы выносятся Т. Манном на обсуждение в каждом из его интеллектуальных романов, где человек не просто изучает и наблюдает мир, но и берет на себя весь груз ответственности за него. Адриан Леверкюн, выбравший ложный путь в жизни и в искусстве, вступивший в сговор с силами тьмы, раскаивается и пишет свою последнюю ораторию «Плач доктора Фауста».
-
1. Манн Т. Собр. соч. : в 10 т. М. : Художественная лит., 1959—1961.
-
2. Манн Т. Смерть в Венеции. М. : Азбука, 2008. 118 с.
-
3. Апт С. К. Принцип контрапункта // Апт С. К. Над страницами Томаса Манна. М., 1980.
-
4. Днепров В. Д. Интеллектуальный роман Т. Манна: идеи времени и формы времени. Л. : Сов. писатель, 1980. 254 с.
-
5. История немецкой литературы. Т. V. 1918—1945. М., 1976.
-
6. Карельский А. В. Долг гуманности (Романы о художниках Т. Манна и Г. Броха). От героя к человеку. М. : Сов. писатель, 1990. С. 145—197.
-
7. Мотылева Т. Томас Манн после 1918 года // Мо-тылева Т. Достояние современного реализма. М. : Сов. писатель, 1973. С. 145—223.
-
8. Павлова Н. С. Томас Манн // Павлова Н. С. Типология немецкого романа (1900—1945). М. : Наука, 1982. С. 8—54.
-
9. Русакова А. В. Томас Манн. Л. : Изд-во ЛГУ, 1975. 184 с.
Список литературы Тема искусства и художника в интеллектуальной прозе Т. Манна: новелле "Смерть в Венеции" и романе "Доктор Фаустус"
- Манн Т. Собр. соч.: в 10 т. М.: Художественная лит., 1959-1961.
- Манн Т Смерть в Венеции. М.: Азбука, 2008. 118 с.
- Апт С. К. Принцип контрапункта//Апт С К Над страницами Томаса Манна. М., 1980.
- Днепров В. Д. Интеллектуальный роман Т. Манна: идеи времени и формы времени. Л.: Сов. писатель, 1980. 254 с.
- История немецкой литературы. Т. V. 1918-1945. М., 1976.
- Карельский А. В. Долг гуманности (Романы о художниках Т. Манна и Г. Броха). От героя к человеку. М.: Сов. писатель, 1990. С. 145-197.
- Мотылева Т. Томас Манн после 1918 года//Мотылева Т. Достояние современного реализма. М.: Сов. писатель, 1973. С. 145-223.
- Павлова Н. С. Томас Манн//Павлова Н. С. Типология немецкого романа (1900-1945). М.: Наука, 1982. С. 8-54.
- Русакова А. В. Томас Манн. Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. 184 с.