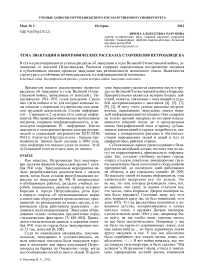Тема эвакуации в биографических рассказах старожилов Петрозаводска
Автор: Разумова Ирина Алексеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3 (124), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются устные рассказы об эвакуации в годы Великой Отечественной войны, записанные от жителей Петрозаводска. Рассказы содержат определенные исторические сведения и субъективные оценки процесса эвакуации как разновидности жизненного опыта. Выявляются структура и устойчивые мотивы рассказов, их информационный потенциал.
Биографический рассказ, устная история, война, эвакуация, адаптация
Короткий адрес: https://sciup.org/14750134
IDR: 14750134 | УДК: 94(470)(470
Текст научной статьи Тема эвакуации в биографических рассказах старожилов Петрозаводска
Предметом нашего рассмотрения являются рассказы об эвакуации в годы Великой Отечественной войны, записанные от жителей г. Петрозаводска 1914–1932 годов рождения. Среди них «дети войны» и те, для которых военные годы совпали с периодом студенчества или началом трудовой деятельности. Состав информантов – 5 женщин и 2 мужчин. (См. список информантов. Мы приводим минимально необходимые сведения, сохраняя конфиденциальность, и используем сокращение: И – информант. Тексты находятся в электронном архиве сектора исторической и социальной антропологии ЦГП КНЦ РАН (г. Апатиты).) Шестеро из них – бывшие преподаватели. Записи были сделаны в 2004 году, трое информантов недавно ушли из жизни. Этой публикацией хочется отдать дань их памяти.
ОТЪЕЗД
Как известно, Петрозаводск был оккупирован частями финской Карельской армии 1 октября 1941 года. Эвакуационные мероприятия начали разрабатываться руководством с начала июля, когда была создана республиканская комиссия по эвакуации [6; 49]. В специальных и обобщающих работах, разделах учебных пособий, посвященных данному периоду истории Карелии и города Петрозаводска, речь идет в первую очередь об организационных мерах и демонтаже оборудования промышленных предприятий, их размещении на новых местах, о героическом труде работников транспорта – водников и железнодорожников. Эвакуации оборудования отдано очевидное предпочтение перед «человеческим фактором» [3; 601–604]. Приводятся статистические данные: к середине сентября 1941 года из города было эвакуировано около 53 тыс. жителей [8; 208].
Судя по имеющимся материалам, документальным, мемуарным и художественным, самым заметным эпизодом была эвакуация горожан в последние дни перед оккупацией Петрозаводска на баржах по Онежскому озеру, когда под бомбежками погибло много людей. В целом теме эвакуации уделяется скромное место в трудах по Великой Отечественной войне в Карелии. Приоритетными являются история боевых действий, сюжеты, связанные с оккупацией и судьбой ингерманландского населения [4], [5], [7], [9], [2]. В силу этого устные рассказы петрозаводчан, переживших эвакуацию, имеют немалый информационный потенциал. Они содержат не только ценный материал по истории повседневности военной эпохи, но и пропущенные сквозь биографический опыт и призму субъективных впечатлений и оценок подробности, связанные с конкретными фактами и обстоятельствами перемещения людей и семей в тыл из прифронтовых районов страны.
Субъективные оценки происходившего базируются на житейской логике, поэтому они не могут не корректировать официальную информацию. Так, согласно учебнику истории города, «перед отходом советские диверсионные группы вынуждены были уничтожить оборудование предприятий, до последних дней работавших на оборону, и ряд городских зданий» [8; 209]. По рассказу одной из наших информантов, «мы удивительно несерьезно все это делали. Это не мы, это они, которые руководили этим, вот, во-первых, они сразу за нашим отъездом все, что могли, здесь взорвали. Дворец пионеров зачем было взрывать? Гостиный двор, вот этот дом, взорвали сразу же, он был новенький, этот дом» (И3). Тут же рассказчица вспомнила о довоенном детстве, воспринимаемом в самых светлых тонах, о кружках Дворца пионеров, о родительском доме: «Вот у нас, например, было всего, не так чтобы очень огромно много, но все было исключительное. Например, у нас не было ни каких-то алюминиевых ложек, или еще каких-нибудь… но была деревянная ложка крупу насыпать и все. У нас все абсолютно было серебряное: все ложки, вилки, ножи, все абсолютно. <…> И вот война началась, все люди закрыли свои квартиры, и было сказано: “Мы уезжаем”». Разрушение города, отъезд в эвакуацию, прекращение детской жизни, вписанной в культурный ландшафт города, утрата налаженного быта и семейных реликвий соединяются в единый образ: «Нам не дали, война не дала дожить человеческую детскую жизнь. У нас хорошо все было, Дворец пионеров был, динамка была, где мы плавали, ныряли. Было очень хорошо… Это все разрушили, и все поехали кто куда» (И3).
Тема эвакуации закономерно связана с «женским» и «детским» текстами войны. Как представляется, она более свободна от внутренних запретов на рассказывание, которые характерны для фронтовых или «блокадных» сюжетов, историй о пребывании на оккупированной территории, особенно если оно повлекло за собой репрессии или сопряжено с тяжелыми эмоциональными переживаниями.
Эвакуация – это вынужденное и временное, то есть имеющее начало и конец (отъезд и возвращение), пребывание в чужом месте и в экстремальных условиях. Главное в рассказах – дорога в эвакуацию (в отличие от возвращения, о котором часто вообще не упоминалось) и описание образа жизни на новом месте, контрастирующего с обычными, нормативными условиями существования. Доминирует идея «выживания».
При всей повторяемости типовых мотивов и схем рассказы демонстрируют многообразие реальных ситуаций, в которых осуществлялась эвакуация. Уезжали организованно, иногда с участием сотрудников милиции, спасались бегством по личной инициативе или по совету знакомых. Были другие варианты. Например, И1 получила направление Министерства просвещения на работу в Красноярский край и добиралась туда самостоятельно. Большей частью эвакуировались с предприятием.
«Вот, а потом папа у нас работал начальником снабжения завода… “Северная точка” назывался завод. Там подводные лодки должны были строить, ну, вот, и он с первым составом оборудования уехал, потом вернулся, за вторым составом – опять уехал. Ну, вроде, не думала, что так быстро все это, но в августе мы уже подготовились к эвакуации, уже сидели на вокзале, вдруг нам приносят телеграмму, что езжайте в Горький, папа не может за нами приехать… и мы месяц жили в Горьком, с папой. А потом завод с оборудованием дальше, в Казахстан отправили, это Северо-Казахстанская область, город Петропавловск» (И7).
«В начале войны, в 1941 году, мы не смогли эвакуироваться с фабрикой, потому что отец был больной… Готовилась операция, но операцию не смогли сделать, потому что за время финны были уже в двадцати пяти километрах от города. Нас из города срочно эвакуировали, пришли четыре солдата и милиционер. Вместо баржи, которая шла от фабрики, от лыжной фабрики, нас выгнали из Петрозаводска на обыкновенной моторке» (И5).
«Просто сказали, объявили по радио: вот таким-то вот улицам идти на баржу такого-то числа, если не хотите остаться в плен, и все, конечно, пошли, и мы, конечно, пошли туда на набережную» (И3).
В одном из рассказов есть описание того, что происходило на петрозаводской набережной за несколько недель до оккупации города: «…мы вот вдвоем с мамой, значит, собрались, что с собой, ведь ничего не возьмешь: чемоданы, два-три чемоданчика… И вот полная пристань народа. Пароход ждем, что пароход нас возьмет и увезет, а что-то долго задержался, и мы тут толкались, много людей петрозаводских. Чемодан у меня с зимней одеждой украли сразу же. Ну, и вот началась погрузка, некоторые женщины хотели, чтобы тут, помню, кровать, знаете, тогда с шариками, тогда такие кровати были. Ну, вот и отказали ей. Говорят: “У нас людей некуда, а вы еще с кроватями здесь”. Ну, в общем, многие вещи оставались на пристани. Вот так сели, и полные трюмы, и мы попали только наверх, на палубу, так светлые тогда еще были, еще такие ночи, и так мы поплыли в Пудожский район, и туда эвакуированы были» (И1).
Обязательный момент рассказов, который не требовал дополнительных вопросов, – упоминание о взятых с собой вещах. Оно сопровождалось ретроспективной оценкой своего поведения и ситуации – правильно или неправильно собрались в дорогу, была ли возможность взять необходимое, как представляли себе сроки войны и, соответственно, возвращения и т. д.: «ну, мы все, что могли там взяли, из мебели, конечно, там тряпки, машину, там все, что наиболее ценное, взяли. Славик-то у нас уже был подростком, лишние руки» (И7); «у нас же здесь в городе все, осталась квартира полностью, со всем, со всем, мы с одним чемоданчиком уехали» (И5); «два чемодана и машину швейную и еще ведро с продуктами, какие продукты были: печенье, по-моему, только печенье и сахар. <…> И в этих чемоданах мы взяли совсем не то, что надо было взять, потом мы уже поняли, когда уже уехали из дома, мы поняли, что надо было другое совсем брать. Теплые вещи надо было брать, а мы думали, что мы вернемся, мы вернемся до зимы, мы вернемся. Война кончится, и мы вернемся. А было все у меня, и зимнее пальто, и у мамы все было. А было только с собой одно летнее мамино пальто, больше ничего, у меня только курточка» (И3) .
Проблема теплой одежды обсуждалась практически во всех рассказах, очевидно, потому, что они представляют преимущественно женскую точку зрения с характерным вниманием к быту и установкой на самосохранение. Эвакуировались петрозаводчане в конце лета – начале осени, и холодная зима 1941/42 годов в Архангельской области, на севере Урала, в Коми крае или северном Казахстане оказалась одним из первых серьезных испытаний переселенцев: «Господи, какие же морозы там были, по пятьдесят градусов, а одеть-то нечего. Господи, это-то вот надо же, у меня такая шубенка была на рыбьем меху, и были эти, потом уже что-то завернула там на ноги, сапоги, вот так вот, так я туда вот сувала» (И4); «я-то все-таки довольно легко эвакуировалась. Правда, не было одежды, пока первое, потеплее, чтоб такое мы достали, все ходила в шляпе и в осеннем пальто, а морозы сильные первые этот год были» (И1).
Отъезд в эвакуацию разделял сограждан на категории: уехавших и оставшихся. Сквозь призму времени, социального опыта и знаний рассказчиков судьба оставшихся в оккупации должна бы оцениваться скорее как достойная сожаления. Вместе с тем «оптика повседневности» задает иные формы размежевания: «Все было, а все пропало, ничего не осталось. Все здесь, можно сказать, что мародеры растащили. Те, кто не уехал из Петрозаводска, или сначала уехали, а потом с баржи спустились на берег и вернулись обратно в Петрозаводск, и не растерялись, сразу пошли по квартирам брать чужие вещи. Не все бы так бы сделали, я думаю, не все, наверное. Не знаю, конечно, но я думаю, не все. Потому что и мои родственники там были» (И3).
ДОРОГА
Подробное изложение пути «туда» характерно для эвакуационных рассказов. Перемещение, как правило, происходило поэтапно, часто со сменой мест пребывания. Так, многим из тех, кто первоначально эвакуировался в прифронтовые районы (Заонежье, Пудожский район), приходилось перебазироваться по мере приближения фронта: «Вот, и мы здесь, вот, слезли, в этом селе, в Семенове, в детском доме, в этом. <…> И здесь в этом селе… начинала я работу, так месяца два мы, пожалуй, там. А потом уже финны начали, знаете, налетать на наши, через озеро уже налеты были… нападения. Поэтому решили, что детский дом надо эвакуировать. И вот детский дом за семьдесят пять километров ближе к Архангельской, на грузовиках, нас посадили на грузовики, и семьдесят пять километров мы вот тут тряслись до Колодозера, такое место» (И1).
Одна из информантов эвакуировалась из небольшой деревни Прионежского района: «А война началась, это сорок первый год, мы все учителя, сколько нас было, вот все мы гурьбой, значит, отправились пешком. Сначала дошли до Шелтозера, потом мы дошли до… до Вытегры, пешком шли, пешком от села. Вот село, мы уходим – финны занимают, мы переправляемся на ту сторону Свири – а финны на этой стороне. И вот как-то так за нами, вот так, почти дошли до Вытегры, а там уже и до северного Урала. Там работала в школе» (И4) .
«Неорганизованные» эвакуирующиеся старались добраться до родных мест или родственников: «Привезли нас до Сенной Губы. В Сенной Губе, значит, нас высадили и сказали: “Все, вы дальше, мы, значит, сейчас поедем, надо забрать еще народ”. <…> Мы четыре дня кое-как в Сенной Губе проболтались, есть нечего, хлеба кое-какой кусок достанешь, в общем, с первого дня мы сели на норму. Потом через четыре дня какая-то моторка пришла, нас все-таки до Типи-ниц добросили, до родины до моей» (И5).
Созданный незадолго до Великой Отечественной войны Петрозаводский университет был эвакуирован в Сыктывкар, где и работал весь период оккупации. Многие студенты университета ехали в Сыктывкар самостоятельно, поскольку лето проводили у родных. Добирались разными видами транспорта, нередко часть пути шли пешком, поскольку железная дорога до Сыктывкара не доходила: «Я в Пудож приехал, а там оказалось… еще пятеро ребят, уже старше еще курсом меня. И мы с Пудожа ждали, ждали машину. Там какая-то машина грузовая, в кузове, зимой, не помню, это декабрь был месяц, кажется. Холод, дорога отвратительная. Ну, мы доехали до Няндомы, в Няндоме купили билеты до Айкино, есть такая станция, не доезжая до Сыктывкара сто километров. Ну вот, приехали туда, в Айкино, и пешком сто с лишним километров шли по зимней дороге. В основном она шла или мимо реки, или по реке. Прибыли в Сыктывкар, там уже основная масса была преподавателей…» (И2).
Особенно ярки детские воспоминания. По рассказу одной из информантов, мама которой была студенткой, ее, десятилетнюю, близ той же станции Айкино ночью оставили в зимнем лесу «караулить вещи», пока взрослые ищут попутную машину. Вдруг она со страхом увидела приближающегося «медведя», которым оказался местный житель – коми в малице; он подошел и попытался заговорить с ней на коми языке, чем напугал не меньше. Следующим ее впечатлением от переезда была ночевка эвакуированных в одной комнате с большой группой заключенных, которые, как она теперь полагает, судя по их поведению и речи, были «политическими» (И6). Сама длительность пути, определявшаяся условиями военного времени, делала этот отрезок жизни событийно насыщенным, связанным и с непривычными условиями существования, и с узнаванием новых мест и людей.
НА НОВОМ МЕСТЕ
Эвакуация как любая разновидность миграции сопряжена с адаптацией человека к новому месту, обстоятельствам, окружению. Рассказы об эвакуации подчеркнуто этнографичны, поскольку сквозь призму времени передают восприятие чужого места, быта, социума. Перемена места жительства дает основания для сопостав- лений. Так, одна из респонденток сравнила Петрозаводск своего детства с другими увиденными северными городами: «Таким образом, мы сразу познакомились с Белозерском там, не знаю, с Вытегрой, еще с чем, с Вологдой. Потом этот… Котлас. Не знаю, где Котлас… Между Архангельском и Вологдой. Потом самое замечательное у меня воспоминание – это город Вельск в Архангельской области. Это очень странный город. Не странный, я просто такого не видела. Петрозаводск – маленький город, но какой-то город он был. Тут был вечно шум, какие-то телеги ехали, кто-то там кого-то куда-то требовал, в общем, что-то тут шевелилось, в Петрозаводске. В связи еще с озером. Все-таки озеро большое, лодки шныряли, яхты ведь были, у моего дедушки тоже была яхта. <…> Итак, чем Вельск замечательный: церковь, маленький посад и тишина, все домики такие одинаковые, какие-то маленькие в городках домики, но городские, не деревня. И протекает тихая, тихая река. Абсолютно ни шума, ничего. Ни камешка, там нет ни камешка, вообще там песок, желтый песок, и такая желтая там протекает эта речка. Удивительно оригинальный городок» (И3).
На восприятие нового места с его природноландшафтными и этнографическими особенностями накладывается экстремальность обстоятельств: «Вот, когда папа ушел, нам было не под силу отапливать, а там уже начались морозы в Казахстане, морозы под сорок, пятьдесят градусов. Но как-то они воспринимались не так, сухой воздух очень… ветродуй такой, второй этаж, комнаты большие, отапливать не знаешь чем, потому что там с дровами, вообще, в Казахстане очень сложно было. <…> Ну, знаете, вот в Казахстане строят дома такие… мазанки, знаете, и навоз, солома и вот делают такие кирпичики, и из кирпичей вот этих, саманных… кизяк, наверное, правильно» (И7). «Никакого масла, никакого мяса, даже говорить об этом не… Мы просто забыли о существовании всех этих продуктов. Рыбу там вообще не знают. Может, в Вятке и ловят рыбу, но мы ее не видели» (И3).
По рассказам можно выявить знаковые отличия тех или иных регионов, населенных пунктов и их жителей в восприятии приезжих. Переселенцы из Карелии столкнулись с разными группами коми, манси и хантов, с казахами и представителями некоторых других народов, локальными типами русских на Урале и в Сибири. Характерна амбивалентность оценки местного населения, в том числе иноэтнической его части, в отношении к эвакуированным. Местные жители предстают и в роли спасителей, и в роли антагонистов.
«Вообще, говорили, что люди доброжелательные, которые принимали эвакуированных. Я бы не сказала. Ну, мое детское восприятие, ну, такое, что народ не очень казахи были добро- желательные. Они очень бедные были. За счет нас, эвакуированных, потом обогатились, можно сказать, все, что нам принадлежало, а тут даже обокрали» (И7).
«Картошка у местного населения была, и, конечно, было молоко. У них все-таки эти продукты были. Но там среди них было очень много староверов. У меня там тоже подружка была… Я как-то раз к ним прихожу, а она говорит: “Хочешь молока, я тебя угощу. Я боюсь, но я все-таки тебе налью”. Она наливает стакан себе и мне. Вот по столько молока наливает в стакан, а остальное добавляет абсолютно сырой воды. Вода из колодца. Наливает. Я бы, конечно, все выпила это молоко» (И3).
По рассказам эвакуированных в Коми, местные жители на базаре, «услышав русскую речь, убирали продукты под прилавок» (И4, И6), а когда мать одной из информантов повезла на саночках менять на еду вещи, ей не отпирали, лишь однажды из-за дверей спросили, нет ли швейной машины (И6). Разумеется, могли быть тексты и противоположного характера, но в наших материалах их не оказалось. В отношении культурно дистанцированных народов информанты использовали этнические стереотипы, касающиеся «некультурности», экзотичности поведения, «нечистоплотности» и т. п.: «Меня удивляли обычаи казахов… Слушайте, вот они, если заходишь в квартиру – у них очень грязно было всегда… Но то, что нам это дико было, как это так, где бы они ни были, они тут же справляют свою нужду» (И4).
Негативное отношение местных к приезжим может ассоциироваться с этническим или локальным типом характера. В целом же информанты-женщины старались воспроизвести сбалансированный, «объективный» текст, основанный на идее «все люди разные». Можно пронаблюдать, как в ходе интервью колеблются оценки одного и того же респондента; отчасти это реакция на формулировку вопроса собирателем, отчасти – внутренняя логика, направленная к известному равновесию: «Знаете что, к нам относились, вообще-то, если так по прямой, вот само местное население, так – вот мы приехали, и почему убежали, почему немцев там… А так вот которые люди-то пограмотнее, да так это, ну, нормально… Cтарики тоже, в принципе, к нам по-доброму» (И4). «Не очень относились, ну, местное население. Конечно, так, кто понимал, тот относился с добром, а кто нет, так. Там ведь в этой местности жили вогулы, жили зыряне. <…> А вогулы – это, наверно, тоже, как бы близкие. <…> Ну, я жила в семье вогулов… так вот, это, действительно, ведь добрые люди тоже водятся» (И4).
Противопоставление «местных» «эвакуированным» осуществляется главным образом на основе качественного различия в условиях вы- живания. «Надо сказать, эвакуированные жили очень плохо, очень бедно. Местное-то население еще держалось, все-таки у них были и свои овощи. Вот. А эти, конечно, тут и умирало, и уходили дальше... Местное население ничего, а эти очень» (И1).
Особый аспект составляют взаимоотношения внутри сообщества самих эвакуированных. Их оценка, достаточно идеализирующая, почти однозначна (опирается на ключевые понятия -«взаимопомощь», «солидарность») и чрезвычайно актуальна для того поколения, к которому принадлежат информанты: «Там были ведь и с Ленинграда были эвакуированные учителя, были вот с Петрозаводска... ну, в общем, дружно было, очень дружно» (И4). «В смысле вот такого доброго отношения, вот, даже не местное население, хотя и там были добрые люди, конечно, а вот, эвакуированные помогали друг другу. Вот, помню, мама приходила, ну, стирать, приходилось на все идти, была там семья ленинградцев, блокадников. Они, видимо, сами пережив вот этот голод. А у нее муж работал на мясокомбинате, у этой женщины. И она где-то в конторе работала. Как-то познакомилась с мамой и приглашала ее то помыть, то убраться, она очень уставала, и то каких-нибудь косточек там даст, видимо, там работающим выделяли, я не знаю» (И7).
Взаимопомощь была характерна и для детей эвакуированных, которые, например, группой собирали школьные пайки, чтобы по очереди отнести домой немножко хлеба и леденцов (И6). Братство эвакуированных, по аналогии с фронтовым братством, призвано контрастировать с разобщением современных людей, которое болезненно переживается представителями старшего поколения. Ярко выражена «контрапре-зентная» функция воспоминаний, критически направленных против настоящего положения дел [1; 83-91]. Вместе с тем есть и примеры того, как эвакуированные «боролись за существование» между собой: «Вот, ну, наконец, нам выделили какую-то комнату, но получилось так, что на эту квартиру или комнату, я уже не помню, были выделены два ордера. Один такой нахрапистый мужик, он, мы уже въехали, он: “Ничего подобного, это мне, значит, выписан ордер”. И выставил нас, и все. Ну, мама, что женщина может противостоять силе» (И7).
В рассматриваемых текстах ощутимо звучит и тема воровства. Конкретные сюжетные ситуации разнообразны: воровство при посадке на транспорт, кража вещей из оставленных квартир, дорожное воровство, кража еды в общежитии, хищение в частных домах, где жили эвакуированные. Ворами могут выступать остающиеся на оккупированной территории, местное население, маргиналы (неведомые попутчики), такие же эвакуированные.
В изложении повседневных обстоятельств жизни в эвакуации основное место отдано борьбе с голодом: добыванию пищи, нестандартным ее видам и способам приготовления. Сфокусированность на экстремальных бытовых обстоятельствах сближает данные тексты с рассказами о жизни на оккупированной территории и с блокадными сюжетами.
«В Обельщине тут уже мы попали на полный голод. В Обельщине ели мы мох, солому, березовые опилки - все. Клевер и щавель, все, что можно только. Березовые опилки, вот, например, пилим кряж толщиной двадцать сантиметров такой, финны заходят с обыском, говорит: “Что делаете? Игрушки детям пилите?” Отец покойничек говорит: “Да, игрушки, на, попробуй эту игрушку”. Он: “Ой, перкеле”. Понял, что это никуда не годится» (И5) . (Семья все-таки оказалась на оккупированной территории, далее ее переместили уже в пределах оккупированной зоны, и эвакуацией информант называл оба перемещения.)
Спасителями от голода были люди, животные (корова, коза), вещи, которые можно было продать, обменять или использовать: «Мы совсем с одним чемоданчиком уехали. Но в деревне у матери там были станушки, да полотенца, ну, разная утварь там была. <...> Так что вот ходил я, менял хлеб... Там благодаря этому мы еще остались живы... В общем, кое-как вот тут пережили это. И нам помогло то, что у отца были куплены кукко сетей. Эти сети мы насадили, и вот этими сетями мы ловили рыбу» (И5).
Второе место в описаниях быта эвакуированных занимают жилищные условия. Так, у одной из информантов время, проведенное в эвакуации, отмеряется переменами жилья, периодические поиски которого составили основной сюжет повествования:
«Ну, мама стала просить, поскольку тоже далеко очень работала, от военкомата просить комнату, потому что там было полуподвальное помещение, что я не знаю, я не помню даже, были ли там окна... Нашла домик такой. А уже наступила зима, и такая довольно суровая. Домик, и печка, и кухня вместе одно целое, саманный домик, стены сплошь. В общем, на стенах иней. <^> Приходилось даже ему (брату. - И. Р.) и заборы ломать, потому что надо же уголь каменный чем-то разжечь. Никто не выписывает, ну, какое там выписывает, брошены на произвол судьбы, никому не было дела, как кто выживал... Как-то надо было прятать корову, ну, нельзя жить в таком сарае, корова на улице стоит. Нашли новую квартиру, хорошая хозяйка, прекрасная хозяйка все, нам такую чистенькую комнату дала. Ну необыкновенной доброты. <...> Пришла весна, у нее рухнула стена, подмыло водой домик, стена рухнула, пришлось нам опять искать новую квартиру. Мы столько там квартир поменяли» (И7).
Адаптация к новому месту зависела от вида трудовой деятельности эвакуированных. Для большинства из них эвакуация была сопряжена со сменой или качественным изменением профессиональных занятий. Не успевшую закончить педучилище молодую девушку назначили преподавателем физкультуры и военного дела, она учила допризывников (И4); горожанка – учитель рисования стала директором сельского детского дома (И1). За единственным исключением наши информанты – преподаватели, и двое были ими уже во время войны, поэтому рассказы содержат характерные для учительских текстов подробности жизни учебных заведений.
В целом подобные рассказы – предмет междисциплинарных исследований. Историк может по достоинству оценить их информационные возможности в качестве устно-исторического источника. Как любые воспоминания, они прямо или косвенно соотносят прошлое и настоящее по определенным критериям, выявляют биографические траектории и ценностные ориентации представителей поколения. Анализ материала с социологической точки зрения помогает прояснить жизненные стратегии индивидов и групп, механизмы социальной адаптации к кризисным ситуациям. Обладая несомненной эвристической ценностью, эти тексты демонстрируют все многообразие субъективных смыслов происходившего. Наконец, как явление устной культуры они представляют известную традицию рассказывания о пережитых исторических обстоятельствах в их личностном измерении.
СПИСОК ИНФОРМАНТОВ
И1 – Ж., 1914 г. р., пенсионерка, образование высшее, преподаватель среднего специального учебного заведения.
И2 – М., 1921 г. р., пенсионер, образование высшее, преподаватель университета.
И3 – Ж., 1925 г. р., пенсионерка, образование высшее, учитель средней школы.
И4 – Ж., 1929 г. р., пенсионерка, образование среднее специальное, учитель начальных классов.
И5 – М., 1929 г. р., пенсионер, образование среднее, рабочий.
И6 – Ж., 1931 г. р., пенсионер, образование высшее, преподаватель среднего специального учебного заведения.
И7 – Ж., 1932 г. р., пенсионерка, образование высшее, преподаватель среднего специального учебного заведения.
Список литературы Тема эвакуации в биографических рассказах старожилов Петрозаводска
- Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. 368 с.
- Веригин С.Г. Карелия в годы военных испытаний: Политическое и социально-экономическое положение Советской Карелии в период Второй мировой войны 1939-1945 гг. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. 544 с.
- История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск: Периодика, 2001. 944 с.
- Лайне А. Гражданское население Восточной Карелии под Финляндской оккупацией во Вторую мировую войну//Карелия, Заполярье и Финляндия в годы Второй мировой войны: Тез. докл. междунар. науч. конф. Петрозаводск, 1994. С. 41-43.
- Макуров В.Г. Эвакуированное население Карелии на Европейском Севере России (1941-1945)//Карелия, Заполярье и Финляндия в годы Второй мировой войны: Тез. докл. междунар. науч. конф. Петрозаводск, 1994. С. 39.
- Морозов К.А. Карелия в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Петрозаводск, 1983. 239 с.
- Нев алайнен П. Эвакуация ингерманландцев из Ленинградской области во Вторую мировую войну//Карелия, Заполярье и Финляндия в годы Второй мировой войны: Тез. докл. междунар. науч. конф. Петрозаводск, 1994. С. 40-41.
- Филимончик С.Н., Гольденберг М.Л. История Петрозаводска: Учебное пособие. Петрозаводск: Карелия, 2003.
- Makurov V. The Fate of the Finnish Inhabitants of the Territories Annexed by the USSR From Finland as a Result of the Winter War 1939-1940//Historia Fenno-Ugrica. Congressus Primus Historiae Fenno-Ugricae. Vol. 2. Oulu, 1996. P. 65-70.