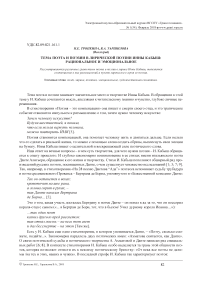Тема поэта и поэзии в лирической поэзии Инны Кабыш: рациональное и эмоциональное
Автор: Тропкина Надежда Евгеньевна, Таршилова Василиса Александровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (54), 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются различные грани темы поэта и поэзии в лирике Инны Кабыш, выявляется соотношение в них размышлений и чувств лирического героя ее поэзии.
Поэт, лирика, поэтика, эмоциональное, художественная семантика
Короткий адрес: https://sciup.org/14822667
IDR: 14822667 | УДК: 82.09:821.161.1
Текст научной статьи Тема поэта и поэзии в лирической поэзии Инны Кабыш: рациональное и эмоциональное
Тема поэта и поэзии занимает значительное место в творчестве Инны Кабыш. В обращении к этой теме у И. Кабыш сочетаются мысль, апелляция к читательскому знанию и чувство, глубоко личные переживания.
В стихотворении «Поэзия – это компенсация» она пишет о смерти своего отца, и это трагическое событие становится импульсом к размышлению о том, зачем нужно человеку искусство:
Зачем человеку искусство?
Будучи шестилетней, я поняла, что если нельзя вернуть человека, можно повторить ИМЯ [5].
Поэзия становится компенсацией, она помогает человеку жить и двигаться дальше. Если нельзя что-то сделать в реальной жизни, то можно с помощью слова создать образы, выплеснуть свои эмоции на бумагу. Инна Кабыш пишет о целительной и воскрешающей силе поэтического слова.
Ища ответ на вечные вопросы – в чем суть творчества, для чего нужна поэзия – И. Кабыш обращается к опыту прошлого. И глубоко закономерно возникновение в ее стихах имени итальянского поэта Данте Алигьери, обращение к его жизни и творчеству. Стихи И. Кабыш пополняют обширный ряд произведений русских поэтов, посвященных Данте, о чем существует множество исследований [1; 3; 7; 9]. Так, например, в стихотворении «На 28 песню Дантова “Ада”» поэтесса вспоминает судьбу трубадура и поэта средневекового Прованса – Бертрана де Борна, упомянутого в «Божественной комедии» Данте:
Так он останется в веках:
кровоточит на шее рана, а голова горит в руках, – так Данте наказал Бертрана де Борна… [5].
Это о том, какая участь досталась Бертрану в поэме Данте – он попал в ад за то, что он поссорил короля-отца с сыном («... я Бертрам де Борн, тот, что в былом/ Учил дурному короля Иоанна…»):
…так один поэт казнил другого пред рассветом:
так отнял жизнь – на весь тот свет и дал бессмертие – на этом [Там же].
Есть у И. Кабыш еще одно стихотворение, в котором упоминается Данте, – «Поэту, сколько сможете, подайте...». Закономерна параллель двух поэтических имен: «Ахматова скитается, как Данте». О связи поэтической судьбы и поэтического творчества А. Ахматовой и Данте написан ряд специальных работ [6; 8]. В контексте стихотворения И. Кабыш особо выделяется та грань этой общности поэтов, которая позволяет отнести их к некоему поэтическому братству: «От века все поэты не делимы /на тех и этих, наших и чужих». В последней строфе И. Кабыш так характеризует поэтов:
Не: стар и мал, не: ветренней и строже, но: гордый взгляд и плотно сжатый рот: так друг на друга все они похожи, что Дант родней, чем собственный народ [5].
Последняя строка может вызвать удивление, даже отторжение («Дант родней, чем собственный народ»). Однако цель поэтессы – не вызов и не эпатаж, а глубинная мысль о родстве художников поверх национальных и государственных барьеров.
Раздумья о сущности поэзии и предназначении художника вводят в круг лирических персонажей И. Кабыш поэта, который был для многих в ХХ в. воплощением самой поэзии, – Александра Блока. В стихотворении «Блок в 21-м году» поэтесса обращается к трагическому финалу блоковской судьбы.
Блок в 1921 г. – это результат эволюции взглядов А. Блока на исторические катаклизмы. В идею мировой революции А. Блок верил искренне, поэт предрекал гибель старого мира. Можно предположить, что А. Блоку был свойствен политический романтизм. В письме к матери А. Блок писал: «Для меня мыслима и приемлема будущая Россия, как великая демократия (не непременно новая Америка)» [2, с. 479]. А. Блок с воодушевлением принял Февральскую революцию, но позднее поэта настигло разочарование: «Пережив весной 1917 года революционный подъем, А. Блок не стал сторонником Временного правительства и не примкнул к числу тех, кто оказался доволен “своей конституцией куцей”» [4], о чем пишет Е. Иванова в статье «Блок и Февральская революция». Однако и события Октября 1917 г., и все, что за ними последовало, также вызвали у поэта воодушевление, сменившееся глубоким разочарованием в революции, ощущением невоплотившихся надежд. В конце 1917-го – начале 1918 г. А. Блок призывал «всем телом, всем сердцем, всем сознанием» слушать музыку революции. К 1921 г. эта музыка меняется. К этому мотиву обращается Инна Кабыш в стихотворении «Блок в 21-м году»:
Все громче музыка звучала, она врывалась в каждый дом: такая страстная сначала, такая страшная потом… [5].
«Страстная» потому, что люди хотели изменений, причем радикальных, стремились к перемене не только своей жизни, но и жизни России, жизни мировой. А «страшной» она стала потому, что привела к крови, к человеческим трагедиям, к крушению надежд.
Куда от музыки укрыться, когда России больше нет?
Какая, к черту, заграница, когда сама она весь свет? [Там же].
В этом месте поэтесса говорит, по-видимому, о том, что ушла старая Россия, появились новые люди, которые повели страну в другом направлении. Далее идет очень важная мысль: вопрос о том, нужно ли уезжать за границу, как это делала русская интеллигенция, или брать с нее пример, если «сама она [т. е. Россия] весь свет». В миропонимании И. Кабыш в России есть все, она всеобъемлюща, эта страна уникальна и самобытна.
И обречен, кто ей не служит.
И служит. И спасен, кто глух.
Блок умер, чтоб ее не слушать:
он испустил не дух, а слух… [Там же].
В этой строфе поэтесса объединяет две противоположности – «служит» и «не служит». Получается, что обречены все русские люди: ведь они не знают, что будет потом, во что эта революция выльется. «И спасен, кто глух…» – т. е. спасен тот, кто отстранился от этого страшного явления; глухой не в смысле физиологическом, не в буквальном значении, а в духовном, кто не пустил музыку революции и все, что было с ней связано, к себе в душу.
Финальные строки стихотворения вновь обращены к теме музыки, в которой Блок, как и другие поэты-символисты, видел высший смысл, – «Мир движется музыкой». Мир пореволюционный заполнен страшной музыкой, от которой не уйти. Единственный выход – смерть: «умер, чтоб ее не слушать». Традиционный синоним слова «умереть» – испустить дух оборачивается трагической глухотой, которая равна смерти.
И своего рода кульминацией темы поэта и поэзии стало в лирике И. Кабыш обращение к А.С. Пушкину и М.Ю. Лермонтову. В стихотворении «На Мойке, 12» поэтесса говорит о любви народной к поэту. Она так пишет об этом: «Так почему же у порога/ в слезах замерзших вся страна?». Русский народ идет к поэту в слезах, ибо он то последнее, что осталось от России. К творчеству А.С. Пушкина люди обращаются, чтобы испытать катарсис и обрести надежду:
Что нужно ей в его квартире?
Но потому она и здесь, что не душа в заветной лире –
России Пушкин нужен весь [5].
В лермонтовском стихотворении с первой строки – «Взять – и Мартынову, мартышке…» – содержится апелляция к известным фактам биографии М.Ю. Лермонтова. В стихотворении очень личностное отношение И. Кабыш к поэту, с которым ее разделяет больше века. Она прощает его за то, что забыл многих, тех, кто его любил, но не может ему простить, что не пожалел человека, который больше всех боготворил его – бабушку, Елизавету Алексеевну Арсеньеву:
Но ту, что больше всех любила, но бабку мог бы пожалеть! [Там же].
И. Кабыш обращается и к поэтам ХХ столетия. Так, стихотворение «Всякое царство берется силой…» посвящено Иосифу Бродскому. В качестве эпиграфа к этому стихотворению поэтессой были выбраны слова Дмитрия Быкова, современного русского поэта и публициста, – «…Долбаный Бродский». В этом эпатирующем эпиграфе – одна из граней сложного отношения И. Кабыш к Бродскому. Она упрекает поэта:
Ты не умеешь любить, мой милый.
А захотел бы – смог… [Там же].
Поэтесса будто прогоняет Бродского:
Так что ступай походи по свету белу – какой твой век! – …[ Там же].
«Может, обрящешь что дорогое…» – пишет И. Кабыш. Здесь поэтесса использует церковнославянское слово «обрящешь», и это не случайно. В этом высокий смысл в сочетании со столь характерной для поэзии И. Кабыш иронии, которой пронизаны и заключительные строки стихотворения:
Я же, пока не вернешься, найду что любить другое.
Родину, например [Там же].
В аспекте рассматриваемой проблемы знаменательно стихотворение Кабыш о Юрии Гагарине. Она начинает со слов, что «Юрий Гагарин был великий русский поэт». Далее:
Россия выпихнула его из себя в небо, как в ссылку, как на Кавказ, и он сел в карету, то есть в ракету, – ибо путь ракет – поэтов путь… [Там же].
Поэтесса упоминает о ссылках, в которых были многие русские поэты (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов и др.), и сравнивает путь ракеты с путем поэта, с его стремительным движением:
потому что поэт — тот, кто говорит с Небом, словно языковой барьер, преодолевая земное притяжение [Там же].
В стихотворении И. Кабыш традиционная отнесенность поэта к сфере высокого становится реализованной метафорой, поэт связан с Небесами и Богом, с ними он разговаривает, туда стремится его душа, мысль, которая преодолевает земное притяжение.
Тема спасительной, исцеляющей силы поэтического слова находит развитие в стихотворении И. Кабыш «В моей бестрепетной отчизне...»:
В моей бестрепетной отчизне, как труп, разъятой на куски, стихи спасли меня от жизни, от русской водки и тоски… [Там же].
Здесь, в столь грустно охарактеризованной России (эпитет «бестрепетная», сравнение «как труп, разъятой на куски») поэтесса остро ощущает спасительную силу поэзии. Стихотворение написано в 1990-х гг. и становится своего рода знамением времени. Поэзия обретает черты универсалии, становясь «отчим домом, колодцем, крышею, звездой…», т. е. всем:
…стихи, не заменив России, мне дали этот свет – и тот [Там же].
В стихотворении «Стихи нужны не сами по себе ...» тема поэта и поэзии обретает религиозный смысл, стихи – это дорога, движение по вертикали, подъем:
Стихи нужны не сами по себе, а как дорога или как ступени [Там же].
И это дорога к Богу, дорога в храм или в монастырь:
...Стихи приводят в храм иль в монастырь:
мужчин – в мужской. К примеру, Святогорский [Там же].
В финале стихотворения дорога – это трагический последний путь поэта, путь в Святогорский монастырь – место захоронения А.С. Пушкина.
Таким образом, стихотворениям И. Кабыш, посвященным теме поэта и поэзии, одной из магистральных в ее лирике, присуще органическое сочетание авторской мысли, апелляции к фоновым знаниям русской и мировой литературы и чувства.
Список литературы Тема поэта и поэзии в лирической поэзии Инны Кабыш: рациональное и эмоциональное
- Асоян А.А. «Почтите величайшего поэта…»: судьба «Божественной комедии» Данте в России. М.: Книга, 1990.
- Блок А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 8: Письма. М.; Л.: ГИХЛ, 1963.
- Елина Н.Г. Данте в русской литературе, критике и переводах//Вестник истории мировой культуры. 1959. № 1. С. 105-121.
- Иванова Е. Блок и Февральская революция //Наше наследие. 2017. № 121. URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/12106.php (дата обращения: 16.10.2017).
- Кабыш И. Рай -это так недалеко. Стихотворения . URL: http://www.pereplet.ru/text/kabish07may03.html (дата обращения: 16.10.2017).
- Мейлах М.Б., Топоров В.Н. Ахматова и Данте//International journal of Slavic linguistics and poetics. 1972. Vol. XV. С. 44-67.
- Рослый А.С. Данте в эстетике и поэзии акмеизма: система концептов: На материале творчества А. Ахматовой, Н. Гумилева, О. Мандельштама: дис. … канд. филол. наук. Ростов н/Д., 2005.
- Хлодовский Р.И. Анна Ахматова и Данте//Тайны ремесла. Ахматовские чтения. Вып. 2. М., 1992. С. 75-92.
- Эткинд Е.Г. Тень Данта//Вопросы литературы. 1970. № 11. С. 88-106.