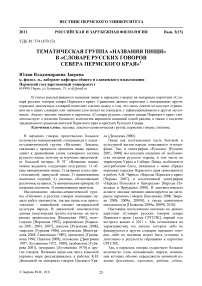Тематическая группа «Названия пищи» в «Словаре русских говоров севера Пермского края»
Автор: Зверева Юлия Владимировна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 3 (15), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются названия пищи в пермских говорах на материале картотеки «Словаря русских говоров севера Пермского края». Сравнение данных картотеки с материалами других пермских диалектных словарей позволяет сделать вывод о том, что часть лексем не находит отражения ни в каких словарях или значения слов может не совпадать с зафиксированными в других источниках. Анализ лексики питания в картотеке «Словаря русских говоров севера Пермского края» свидетельствует о наличии большого количества вариантов названий одной реалии, а также о сходстве традиционного рациона жителей Пермского края и крестьян Русского Севера.
Лексика, лексико-семантическая группа, пермские говоры, питание
Короткий адрес: https://sciup.org/14729021
IDR: 14729021 | УДК: 81'374
Текст научной статьи Тематическая группа «Названия пищи» в «Словаре русских говоров севера Пермского края»
В пермских говорах представлено большое количество наименований, относящихся к лексико-семантической группе «Питание». Лексика, связанная с процессом принятия пищи, принадлежит к древнейшим слоям словарного состава русского языка, поэтому ее изучение представляет большой интерес. В ТГ «Названия пищи» можно выделить следующие подгруппы: 1) общие наименования пищи; 2) названия плохо приготовленной, невкусной пищи; 3) наименования выпечных изделий; 4) лексемы, обозначающие различные кушанья; 5) наименования приправ; 6) названия лакомств; 5) наименования напитков.
Исследованию лексико-семантической группы «Питание» в русских говорах посвящено немало работ лингвистов, так как пища и ее приготовление – важнейший элемент материальной культуры народа. В диалектной лексикологии данная тематическая группа изучалась на материалах архангельских [Ильинская 1985], вологодских [Воронина 1992], воронежских [Карасева 2001, 2004, 2007], донских [Рудыкина 2008], тверских [Туркина 1986], костромских [Виноградова 2008; Ганцовская 1989], орловских [Гришанова 1996; Павлова 2009], псковских [Дмитриева 1997; Лутовинова 1972, 1989], тамбовских [Губарева 2001], печорских [Лутовинова 1970] и других говоров. Названия пищи как часть языковой картины мира рассматривались в работах К.И. Демидовой на материале говоров Среднего Ура- ла [Демидова 2000].
Пища как неотъемлемая часть бытовой и культурной жизни народа описывается этнографами. Так, в монографии «Русские» [Русские 2005, 2008] мы находим сведения об особенностях питания русского народа, в том числе на территории Урала и Сибири. Пища, особенности употребления блюд, связанные с ними обряды коренных народов Пермского края описываются в работе А.В. Черных «Народы Пермского края» [Черных 2007], в коллективной монографии «Народы Поволжья и Приуралья» [Народы Поволжья и Приуралья 2000]. В лингвистическом аспекте лексика питания анализируется на материале пермских говоров [Бакланова 2008; Зверева 2008, 2009а, 2009б], а также памятников письменности [Полякова 2009а, 2009б, 2010].
Настоящее исследование основано на данных картотеки «Словаря русских говоров севера Пермского края» [далее СРГСПК], первый том которого вышел в 2011 г. Мы остановимся на характеристике тех лексем, которые либо не фиксируются в других словарях пермских говоров, либо их значение может быть уточнено и дополнено в результате обращения к картотеке СРГСПК.
Так, в пермских говорах существует большое количество слов, называющих пироги, номинация которых обычно определяется начинкой изделия: брусничник, гороховик, грибник, губник, грузлёвик, капустник, картовник, кисленик, луко-вик, морковник, репник, солоник, черёмушник, черничник, ягодник. Эти лексемы, как видно, образуются по одной модели: основа + суффикс -ник, реже -овик. Известно, что в качестве начинки пирогов жители Пермского края использовали также побеги хвоща полевого (пистики) и борщевика (пиканы): О, пистики, раньше рвали их. Знашь, нарвёшь, изрубишь, с яичком вон пироги стряпал. Это трава, трава же. У меня мама как на тракторе робила, соседка стряпала пис-тичные пироги (Вильгорт Черд.); Пиканы такие растут оне, дудкима. Молоды-те они мягкие. Их но запаришь, а иногда и дак в хлеб да куды да, везде запекали (Коэпты Черд.); Пироги делают с пиканами (Ракшино Кудымк.). В картотеке СРГСПК зафиксированы отсутствующие в других словарях пермских говоров лексемы писте-шек ‘пирог с начинкой из побегов хвоща полевого’ (Пистики наберём, делам пистишки (Илаб Сол.)); пиканник ‘пирог с начинкой из молодых побегов борщевика’ (Из пиканов называли пи-канники пироги (Илаб Сол.)). В других русских говорах эти слова в подобном значении не встречаются.
Материалы СРНГ и других диалектных словарей показывают, что названия кушаний из борщевика и хвоща полевого фиксируются только в говорах Урала и Приуралья: пиканница ‘суп из пикана’ (удм.) [СРНГ 27: 23]; пистишница ‘кушанье из молодых побегов полевого хвоща – пистиков, сваренное на молоке’ (перм.) [СРНГ 27: 50]. Упоминания об использовании этих растений в качестве пищевых мы находим в этнографических источниках по Русскому Северу: «В традиционном питании большую роль играли дикорастущие растения. Их обычно собирали весной. В пищу употребляли побеги полевого хвоща, получившие в народе разные названия: песты, пестики, пистики, пестушки, письники и другие, а также его клубни. Ели дикий лук, чеснок и щавель (кислицу), стебли зонтичных растений» [Русский Север 2004: 389].
Подобную локализацию лексем можно объяснить влиянием на рацион жителей территории Русского Севера, Урала и Приуралья традиций питания финно-угорских (пермских) народов. Так, у коми-пермяцкого народа блюда из пиканов и пистиков являются национальными и до сих пор употребляются в пищу. В.В. Похлебкин считает, что использование этих растений характеризует именно финно-угорскую (пермскую) кухню: «Из применяемых только в пермяцкой кухне продуктов следует отметить молодой полевой хвощ (пестики) и пиканы (растение, близкое к ангелике). Их используют как овощи в супах, в пирогах в виде начинки и в пермяцких “селянках”. Под этим русским названием в пермяцкой кухне фигурируют яично-молочные смеси, выпекаемые, как яичницы, на сковородках в печи (а не на огне) и сдобренные большим количеством мясных, рыбных, грибных или овощных добавок» [Похлебкин 2004: 317].
В картотеке СРГСПК фиксируется слово пищница , которое, видимо, является результатом контаминации слов пистишница и яичница . Обращение к исследованиям по этнографии коми-пермяцкого народа позволяет точнее сформулировать дефиницию слова пищница ( Ой, пистики каки были. Мы злые на эти пистики… Мелконьки, крупны, таки толстые. Их нарвёшь, делали пищницу, яищницу. Тожо изрубишь в корыте, мясорубки раньше не было, молоко ли-нёшь, яичко – и поставишь в печь (Пухирёво Сол.)). Вот что пишет этнограф А.В. Черных об употреблении в пищу побегов борщевика и хвоща полевого коми-пермяками: «Дикорастущие травы чаще всего дополняли рацион питания в весенний период. Особенно распространены были блюда с побегами хвоща полевого – пистика-ми, с начинкой из которых готовили пироги, для чего пистики рубили в корыте, добавляли в них вареное яйцо, соль и сметану. С пистиками готовили и селянку. При этом порубленные пистики заливали молоком с яйцами. Использовали в пищу пиканы» [Черных 2007: 94]. Таким образом, можно дать следующее определение слову пищ-ница – ‘запеканка из побегов молодого хвоща’.
Часть слов, называющих блюда, существует как в картотеке СРГСПК, так и в других словарях пермских говоров, однако одна лексема может иметь разные значения в зависимости от территории функционирования. Так, в русских говорах бывшего Коми-Пермяцкого автономного округа бытует слово шоМша ‘блюдо из вареных пиканов с квасом’ (Шомшу я и сейчас ем, и ро-бята у меня тоже любят, пиканы с квасом сде-лашь и вот [СРГКПО: 267]). Cлово происходит от коми-пермяцкого шöма ‘кислый’ [КПРС: 567] и шыд ‘суп, щи’ [КПРС: 575]. В русских говорах Чердынского района Пермского края лексема шомша имеет другое значение, которое обнаруживается в следующих примерах: Сусло из муки – это как квас, густой, тенется. Сусло с шом-шой едим (Марушева Черд.); Рожь напарим, шомшу сделаем, хлебаем с суслом. Густая она, как каша (Марушева Черд.); Напарят рожь в печке. Не сварят, а только чуть водички нальют, и в печке она разопреет. И это хлебали с суслом, и вместе с суслом шомша называлась (Ныроб Черд.). Можно предположить, что в го- ворах Чердынского района слово шомша сначала получило значение ‘жидкое кушанье’, а затем ‘каша из пшеницы или ржи, заправленная суслом’. Скорее всего, это значение и закрепилось за лексемой, так как имеет более конкретную, узкую семантику, чем русское слово каша.
В СПГ зафиксировано слово тобо'лка ‘небольшая булочка или лепешка с начинкой’ [СПГ 2: 438]. В картотеке СРГСПК лексема имеет другое значение – ‘пирог с рыбой’: Пирог тоболка – пирожок маленький с рыбой. Я, гыт, тоболочку маленьку загнул, пирог с рыбой (Пянтег Черд.). Данное слово отмечено и другими диалектными словарями, в которых имеет такие дефиниции: ‘опарный пирог с крупою ли яйцами’, ‘карава-шек хлеба’ [Дилакторский: 503]; ‘ржаная, из пресного теста ватрушка с творогом, картофелем, брюквой, репой и пр.’ [ЯОС 9: 120]. Значение ‘рыбный пирог’ мы находим только в словаре В.Даля, оно зафиксировано с пометой пермское [Даль 4: 774].
Хотя часть лексем, относящихся к ЛСГ «Питание», фиксируется в других словарях пермских говоров, однако материалы СРГСПК дают более точное представление о реалии. Например, в СПГ слово ушки' определяется как ‘пельмени с грибами’ [СПГ 2: 489], контексты картотеки СРГСПК показывают, что дефиницию можно было бы сделать более подробной. Диалектоно-сители подчеркивают разницу между пельменями и ушками: Пельмяни, они круглые делашь, а ушки нет, не заворачиваешь их. Их варят в грибной воде (Бондюг Черд.); Вот они высохли, сушёные грибы, пожалуйста, ушки [делают]. Ну как подвид пельменей, только их варят в бульоне, подвид пельменей, только их загибают (Бон-дюг Черд.); Ушки или пельмени грибные, только ушки загибаются совсем как кольцо (Покча Черд.); Ушки тако загибаем концики, пельмяны пологоньки, а ушочки токо загнём концики (Усть-Уролка Черд.). Из примеров видно, что пельмени и ушки для носителей диалекта – это разные виды кулинарных изделий, которые различаются не только начинкой (грибами), но и формой – загнутыми концами, в отличие от пельменей, которые стряпали, как пироги: Пельмени-то как пирог (Пянтег Черд.); Пельмян-от не загибают (Пянтег Черд.); Сушёные [грибы] рубят да мочат, пельмяшки да уголочки делают. Пельмяшки только согнёшь, а уголочки ишо кончики пригнёшь (Камгорт Черд.). Именно этот признак (форма) лег в основу номинации этого вида пельменей. Существенной особенностью приготовления этого блюда является также то, что ушки варят в той воде, в которой замачивали. Таким образом, можно дать следующее опреде- ление к слову ушки – ‘грибные пельмени, концы которых скрепляют вместе, и варят на воде, которая использовалась для замачивания грибов’.
Сравнение зафиксированных в картотеке СРГСПК лексем, называющих одну реалию, дает нам более полное представление о реалии. Например, кушанье из толокна в говорах севера Пермского края получает следующие наименования: болтушка , дежень , жаварёха , кишко-мар , луда , помакушка , сухо' , ( сухое ), сухое толокно , сухое на масле , сыроежка , толокушка , тюря . Такое количество слов связано как с разными принципами номинации кушанья, так и с неполным совпадением семного состава лексем. Так, диалектоносители разводят значения слов дежень и луда по признаку густоты блюда: В квас или в сусло мешают толокно жиденько и хлебают с хлебушком, дежень называется (Ны-роб Черд.); Дежень – его мешают жиденько, а луду густенько, мешают его в квасу (Редикор Черд.); Сделаем луду из толокна, густо намешаем и едим, а если жидко намешаем, то дижень называется (Марушева Черд.); Луду раньше хлебали. Толокно густо замешивают на квасу и хлебают с молоком или с суслом (Пянтег Черд.); Луда. Тоже замешают на воде толокно-то, на холодной. Густо получается, а потом хлебают с водой или с суслом. Это и есь луда (Ныроб Черд.). В СРНГ одно из значений лексемы луда ‘толокно, замешанное на молоке’ [СРНГ 17: 177]; в говорах же севера Пермского края, как мы видим, напиток, которым разводят толокно, не имеет значения. Таким образом, этим словам можно дать следующие дефиниции: дежень ‘толокно, негусто замешанное на квасе, сусле т.п.’; луда ‘толокно, густо замешанное на молоке, квасе, сусле и т.п.’
Этот же признак густоты блюда лежит в основе номинации следующих лексем и устойчивых сочетаний: сухо' (сухое), сухое толокно, сухое на масле: В сухо шибко много толокна намешают – вот и сухо выйдёт (Марушева Черд.); Намешают толокна в сусло – сухо будет (Ныроб Черд.); А сухое – это квас, сахар наложишь, толокно. Это густо-густо намешашь, ну совсем уж оно сухое (Кирьяново Черд.); Сухое на масле – блюдо такое. Масла туда дивно ленёшь, толокна намешашь густенько – приторомно есь даже, ну густо (Редикор Черд.); Сухое толокно. Воды маленько, сахарку (Камгорт Черд.). Эти единицы фиксируются только в СРГСПК, в других русских говорах та же реалия называется словом сухомес ‘кушанье из толокна, круто замешанного на воде или молоке с добавлением соли, растительного масла или меду, патоки, ягод’ [СРНГ 43: 18].
Лексема жаварёха ( жаварёшка ) имеет значение ‘кушанье из толокна с ягодами’: Кушанье из толокна и клюквы с сахаром – жаварёха (Пянтег Черд.); Жаварёшка – сухая черёмуха с толокном (Черепаново Черд.). В картотеке СРГСПК есть также слово жаровиха со значениями ‘клюква’ и ‘каша с ягодами’: Каша из муки с ягодами – жаровиха (Ныроб Черд.); Клюкву те жаровихой называют (Черд.). Можно предположить следующее развитие семантики слова: ‘клюква’ → ‘кушанье с добавлением клюквы’ → ‘кушанье с добавлением ягод’. В результате метатезы из слова жаровиха образовалось жавару-ха ( жаварёха ).
В лексемах сыроежка и помакушка отражается номинация по способу употребления кушанья: Сыроежка из толокна. Бруснику растол-кёшь и толокно замешают – и будет сыроежка (Вильгорт Черд.); Сыроежка из толокна. Разведёшь на воде, хоть на молоке с сахаром (Покча Черд.); Тоlокно быlо, тоўкушку деlали, поlожишь тоlокна, ленёшь воды, вот и тоўкушка, помакушка ле. Так звали и тоўкушкой, и помакушкой (Половодово Сол.). Эти слова фиксируются и в других русских говорах, однако обозначают блюда, приготовленные из иных продуктов: сыроежка ‘кушанье из гречневой муки, разведенной водой, квасом или простоквашей’ [СРНГ 43: 161]; помакушка ‘жидкое кушанье из заваренной молотой черемухи и других ягод, сухих грибов или распаренного конопляного семени’ [СРНГ 29: 195]; ‘жидкая еда для макания блинов и т.п.’ [НОС: 896].
Густое кушанье из толокна, часто с добавлением ягод, называют также тюря ( Тюря - толокно, замешанное с квасом (Покча Черд.); Луда из толокна, тюре ле. Густушшая, на клюкве, сахар туда намешашь (Говорливое Краснов.); Тюря ягодная – толчёная ягода с толокном (Поло-водово Сол.)).
Наличие развитой системы вариантов наименований этой реалии свидетельствует о распространенности этого кушанья в прошлом в быту крестьян Пермского края. Толокно было традиционным продуктом питания не только в Прикамье, но и на Русском Севере2, культура употребления толокна была принесена выходцами оттуда.
В картотеке «Словаря русских говоров севера Пермского края» зафиксированы слова, существующие в литературном языке, но диалектные лексемы не полностью совпадают с литературными по семантике. Наверное, поэтому они не находят отражения в существующих словарях пермских говоров. Например, в СРГСПК для обозначения первого горячего блюда используются существующие в литературном языке лексемы похлёбка, суп, уха. Однако семантика существительных похлёбка и суп в говоре уìже, чем в литературном языке, а слово уха, наоборот, имеет более широкое значение.
Авторы ССРЛЯ дают такие дефиниции лексемам похлёбка ‘жидкая пища с какой-либо приправой (мучной, крупяной, картофельной и т. п.)’ [ССРЛЯ 10: 1683] и суп ‘жидкое блюдо, представляющее собой отвар из мяса, рыбы, грибов и т. п. с приправой из овощей, круп и т. п.’ [ССРЛЯ 14: 1200]. Мы видим, что эти слова в литературном языке почти не различаются по семантике, вызвано это совпадением значения исконно русского ( похлебка ) и заимствованного из западноевропейских языков слова суп (позднелатинское suppa ‘кусок хлеба, обмакнутый в подливку’ → ’похлебка с кусочками хлеба’ → ‘похлебка’ [Черных 2: 218-219]). Контексты из картотеки СРГСПК свидетельствуют о кардинальном различии этих двух кушаний: Ежели мяса не накладено – похлёбка (Купчик Черд.); Похлёбку навертишь из муки-то, картошку накрошишь, похлёбку варишь (Пянтег Черд.); Похлёбка – картошка, вода и лук. Суп – ишо мясо (Тиуново Гайн.); Похлёбка – суп без мяса (Цыдва Черд.); Похлёбку налили. Щи заправлены, суп заправлен, а похлёбка – капуста, картошка (Редикор Черд.); Суп. Накрошила мяса. Похлёбка не суп, отличается (Половодово Сол.). Носители говоров подчеркивают, что похлебка – жидкое блюдо без мяса, в то время как суп – жидкое блюдо на мясном бульоне. Такое противопоставление по признаку постное / скоромное является существенным для диалектоносителей и отражает особенности быта русского крестьянина, для которого питание определялось христианским календарем – чередой постов и мясоедов3.
Лексема уха в пермских говорах имеет не только литературное значение ‘жидкое кушанье, отвар из свежей рыбы’ [ССРЛЯ 16: 1096], но может также служить номинацией грибного супа: Уху надо сварить из грибов-то (Черд.); Уху из грибов делают. Чё думала, тока из рыбы? (Черд.) В разных русских говорах лексема уха может обозначать не только суп из рыбы, но и вообще любую похлебку. В материалах к словарю древнерусского языка уха определяется как навар, похлебка [Срезневский 3: 1328]. Обращаясь к этимологическому словарю, мы находим, что слово уха восходит к праиндоевропейскому языку и в разных европейских языках имеет значение ‘рыбная похлебка’, ‘суп’, ‘похлебка’, ‘подливка’ [Черных 2: 296–297]. Скорее всего, в говорах сохраняется старое значение лексемы, более широкое, нежели в современном русском литературном языке.
В картотеке СРГСПК фиксируются лексема щи и ее устаревший фонетический вариант шти , который подается и в «Словаре пермских говоров». Однако нам кажется, что дефиниция шти – ‘щи’ не совсем точно передает значение этого слова. В 17-томном словаре русского литературного языка мы находим такое определение лексемы – ‘жидкое кушанье, сваренное из капусты’ [ССРЛЯ 17: 1690]; словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой дает следующую дефиницию – ‘жидкое кушанье, род супа из капусты или щавеля, шпината’ [Ожегов: 904]. Контексты СРГСПК свидетельствуют о более широком значении слова: У кого что было. Рыбный пирог, студень – это обязательно! Шти молосные. А с перловкой – постные. Раньше как ели – из одной чашки. Все из неё хлебали, не то, что нынче (Рябинино Черд.); Шти – из толстой крупы. Ситенку [в них] кладём (Ужиткарс Гайн.); Заловят 5-6 ха-рюзков, шти сварят, выхлебают. Вёлгур Краснов.; Шти молосные, суп нонешной (Редикор Черд.); На сенокос натолкёшь толстой крупы, шти варишь (Марушева Черд.); Шти – суп с мясом называли. В печах варили крестьяне (Кер-чевский Черд.). Мы видим, что лексема щи ( шти ) в говорах севера Пермского края обозначала любой суп, именно поэтому она обычно употребляется в сочетаниях: молосные шти ‘щи с мясом’, постные (толстые, толстопятые) шти ‘постный суп по преимуществу с ячменной крупой’: С мясом звали молосные шти (Покча Черд.); Шти молосные – картошка, крупа, капуста, обязательно с мясом (Пянтег Черд.); Шти постные варили. Всякое жито напаривали, делали толокно (Адамово Черд.). С крупой кашу варим, суп, шти толстые (Редикор Черд.); А суп какой варили? – Ну когда чё положишь. Когда гороху, когда рису с мясом, молочные шти, а постные – толстопятые шти зовутся (Черд.).
Более широкая, чем в литературном языке, семантика подтверждается и наличием в разных русских говорах у слова щи ( шти ), таких значений: ‘похлебка из сушеной рыбы с крупою’ [Куликовский: 140]; ‘негустая каша из ячменной крупы, обычно заправленная сметаной’ [СРГСУ 7: 58]; ‘суп с любой приправой, рисом, пшеном’ [СРГБ: 114]. Этимологи предполагают, что слово щи является результатом фонетических изменений шти , и восстанавливают древнерусское съти, которое, видимо, имело значение ‘питательный напиток’ или ‘жидкое кушанье’ [Черных 2: 435].
Таким образом, материалы картотеки СРГСПК содержат языковые единицы, не зафиксированные больше ни в каких диалектных словарях; некоторые лексемы, существующие в других словарях пермских говоров (АС, СПГ, СРГКПО), в Словаре русских говоров севера Пермского края имеют другое значение. Их изучение позволяет нам реконструировать особенности питания жителей Пермского края в прошлом, составить более полное представление о реалиях, выявить словообразовательные и семантические связи слов ЛСГ «Питание» в говорах.
THEMATIC GROUP “NAMES OF FOOD”
Laboratory Assistant of General and Slavonic Linguistics Department
Perm State University
Список литературы Тематическая группа «Названия пищи» в «Словаре русских говоров севера Пермского края»
- АС -Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский словарь). Пермь, 1984-2003. Вып.1-5.
- Бакланова И.И. Названия мучных изделий в пермских говорах//Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования)/Ин-т лингв. исслед. СПб.: Наука, 2008, С.274-279.
- Виноградова П.П. Общие названия выпечных хлебных изделий в говорах Костромской области как материал для ЛАРНГ//Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования)/Ин-т лингв. исслед. СПб.: Наука, 2008, С.267-274.
- Воронина Т.А. Традиционная и современная пища русского населения в Вологодской области//Русский Север: Ареалы и культурные традиции: сб. науч. тр. СПб.: Наука, 1992. С.78-101.
- Ганцовская Н.С. Названия пищи в акающих костромских говорах//Среднерусские говоры и памятники письменности: сб. науч. тр. Калинин: Изд-во Калинин. гос. ун-та, 1989. С.22-29.
- Гришанова В.Н. Обрядовые выпечные изделия и их названия в одном из орловских говоров//Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования). 1994. СПб. изд. ИЛИ РАН, 1996. С.83-88.
- Губарева В.В. Лексика питания в говорах Тамбовской области: автореф. дис.... канд. филол. наук по спец. 10.02.01 -русский язык/Тамбов. гос. техн. ун-т. Тамбов, 2001. 25 с.
- Демидова К.И. Региональный аспект в изучении фрагментов языковой картины мира//Язык. Система. Личность. Екатеринбург: НУДО «Межотраслевой регион. центр», 2000. С.57-66.
- Дилакторский -Словарь областного вологодского наречия. По рукописи П.А. Дилакторского 1902 / изд. подгот. А. Н. Левичкин, С. А. Мызников. СПб.: Наука, 2006. 677 с.
- Зверева Ю.В. Лексико-семантическая группа «питание» в пермских говорах как источник этнокультурной информации//XX Оломоуцкие дни русистов: материалы Междунар. конф. (02.09.-04.09.2009, г. Оломоуц). Оломоуц, 2009а. С.101-104.
- Зверева Ю.В. Названия алкогольных напитков в пермских говорах//Слово и текст в культурном сознании эпохи: cб. науч. тр. Вологда, 2008. Ч.2. С.50-54.
- Зверева Ю.В. Названия напитков в пермских говорах//Живая речь Пермского края в синхронии и диахронии. Материалы и исследования/отв. ред. И.И. Русинова; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2009б. Вып. 3. С.71-77.
- Ильинская Н.Г. Лексика, обозначающая выпечные изделия: (На материале архангельских говоров): автореф. дис.... канд. филол. наук/МГУ им. М.В. Ломоносова. Филол. фак-т. М., 1985. 23 с.
- Карасёва Т.В. Названия варенца в воронежских говорах//Фольклор и литература: проблемы изучения: сб. ст. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001. С.178-182.
- Карасёва Т.В. Названия пищи в воронежских говорах: (Этнолингвистический аспект): автореф. дис.... канд. филол. наук по спец. 10.02.01 -русский язык/Воронеж. гос. ун-т. Воронеж, 2004. 23 с.
- Карасева Т.В. Названия сала в воронежских говорах//Проблемы лингвистического краеведения: материалы Всерос. науч.-практ.конф., посвящ. 75-летию докт. филол. наук, проф. Елены Николаевны Поляковой (г. Пермь, 27-29 ноября 2007 г.)/Перм. гос. пед. ун-т. Пермь, 2007. С.155-159.
- КПРС -Коми-пермяцко-русский словарь/сост. Р.М. Баталова, А.С. Кривощекова-Гантман. М., 1985. 624 с.
- Куликовский Г. Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898. 151 с.
- Лутовинова И.С. Словообразовательный анализ названий кушаний в псковских говорах//Севернорусские говоры: сб. науч. тр. Л.: Изд-во Ленингр. гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена, 1989. Вып.5. С.45-56.
- Лутовинова И.С. О названиях кушаний в печорских говорах//Севернорусские говоры: сб. науч. тр. Л., 1970. Вып.1. С.119-127.
- Лутовинова И.С. Названия обрядовых кушаний в псковских говорах//Проблемы комплексного изучения Северо-Запада РСФСР: сб. науч. тр. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1972. С.56-57.
- Народы Поволжья и Приуралья.Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва, Удмурты / Отв. ред.: Н.Ф. Мокшин, Т.П. Федянович, Л.С. Христолюбова. -М.: Наука, 2000. 579 с.
- НОС -Новгородский областной словарь/Ин-т лингв. исслед. РАН; изд. подгот. А. Н. Левичкин и С. А. Мызников. СПб.: Наука, 2010. 1435 с.
- Ожегов -Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: ООО «ИТИ Технологии», 2008. 944 с.
- Павлова Н.В. Наименования обрядовых блюд и кушаний (на материале «Словаря орловских говоров»)//Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования)/Ин-т лингв. исслед. СПб.: Наука, 2009. С.174-179.
- Полякова Е.Н. Культура питания в Прикамье XVI-XVIII веков (по данным лексики и ономастики пермских памятников письменности). Статья первая//Вестн. Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2009а. Вып. 1. С.3-17.
- Полякова Е.Н. Культура питания в Прикамье XVI-XVIII веков (по данным лексики и ономастики пермских памятников письменности). Статья вторая//Вестн. Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2009б. Вып. 5. С.5-15.
- Полякова Е.Н. Что пили и курили в Прикамье в XVI -первой трети XVIII века (по данным лексики пермских памятников письменности)/Е.Н.Полякова//Вест. Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 1(7). С.5-11.
- Похлебкин В.В. Национальные кухни наших народов. М.: Центрполиграф, 2004. 329 с.
- Рудыкина Е.С., Чемова В.М. Способы номинации мучных изделий в устной речи донских казаков//Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования)/Ин-т лингв. исслед. СПб.: Наука, 2008. С.261-267.
- Русские/отв. ред. В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полищук. М.: Наука, 2005. 828 с.
- Тишков В.А. (отв. ред.). Русские: История и этнография.. М.: АСТ: Олимп, 2008. 751 с.
- Русский Север. Этническая история и народная культура. XII -XX века. М.: Наука, 2004. 848 с.
- СПГ -Словарь пермских говоров/под ред. А.Н. Борисовой и К.Н. Прокошевой. Пермь, 2000-2002. Вып.1-2.
- СРГБ -Словарь русских говоров Башкирии: А-Я/под ред. З.П. Здобновой. Уфа: Гилем, 2008. 406 с.
- СРГСПК -Словарь русских говоров севера Пермского края. Пермь, 2011. Вып. 1. А-В. 364 с.
- СРГКПО -Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого округа. Пермь: ПОНИЦАА, 2006. 272 с.
- Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам: в 3 т. СПб., 1893-1912.
- СРНГ -Словарь русских народных говоров/ ред. Ф. П. Филин, Ф. П. Сороколетов, О. Д. Кузнецова, С. А. Мызников. СПб., 1966-2010. Вып. 1-43.
- ССРЛЯ -Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950-1965.
- Туркина Р.В. Наименования пищи человека в говорах Калининской области: (К вопросу о структуре тематической группы)//Среднерусские говоры: сб. науч. тр. Калинин: Изд-во Калинин. гос. ун-та, 1986. С.116-121.
- Черных А.В. Народы Пермского края. История и этнография. Пермь: Изд-во «Пушка». 2007. 296 с.
- Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. М., 1994.
- ЯОС -Ярославский областной словарь: учебное пособие. Ярославль: ЯГПИ им. К.Д.Ушинского, 1981-1991. Вып. 1-10.