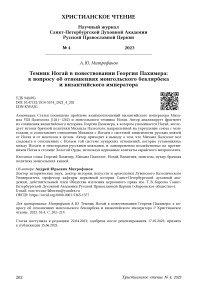Темник Ногай в повествовании Георгия Пахимера: к вопросу об отношениях монгольского беклярбека и византийского императора
Автор: Митрофанов Андрей Юрьевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Общецерковная история
Статья в выпуске: 4 (107), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме взаимоотношений византийского императора Михаила VIII Палеолога (1261-1282) и монгольского темника Ногая. Автор анализирует фрагмент из сочинения византийского историка Георгия Пахимера, в котором упоминается Ногай, исследует истоки брачной политики Михаила Палеолога, направленной на укрепление союза с монголами, и сопоставляет отношения Михаила с Ногаем с системой зависимости русских князей от Ногая и от монголов в целом. Автор приходит к выводу о том, что Михаил Палеолог мог следовать в отношениях с Ногаем той системе нукерских отношений, которые установились между Ногаем и некоторыми русскими князьями, и одновременно воздействовал на противников Ногая в столице Золотой Орды, используя церковные контакты сарайского митрополита.
Георгий пахимер, михаил палеолог, ногай, византия, монголы, нукер, брачная политика монгольских князей
Короткий адрес: https://sciup.org/140303096
IDR: 140303096 | УДК: 94(495) | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_4_202
Текст научной статьи Темник Ногай в повествовании Георгия Пахимера: к вопросу об отношениях монгольского беклярбека и византийского императора
Георгий Пахимер (1242 — ок. 1310), византийский историк, весьма критически описавший деяния первых двух императоров из династии Палеологов: Михаила VIII (1261-1282) и его сына Андроника II (1282-1328), оставил в своем обширном сочинении краткий, но выразительный очерк, посвященный грозному монгольскому бек-лярбеку, темнику Ногаю (1235/1240–1300). Этот очерк, начинающийся фразой «Ὁ δὲ Νογᾶς οὗτος κράτιστος ἦν ἀνὴρ τῶν Τοχάρων…» (Pachymérès, 1984, 445), неоднократно привлекал внимание специалистов, в частности, он интерпретировался в широком контексте восприятия монгольских завоевателей византийскими историками в работах Ф. И. Успенского и в более узком смысле рассматривался в исследовании Н. И. Веселовского [Успенский, 1926, 1–16; Успенский, 1947, 10–28; Веселовский, 1922, 28–30]. Из сочинения персидского историка Рашид ад-Дина следует, что Ногай (от старомонг. Нохай = «собака») был сыном Татара (Тутара) и внуком Бувала (Тевала), седьмого сына Джучи (Рашид ад-Дин, 1960, II. 75). По мнению Н. И. Веселовского, Ногай был незаконнорожденным сыном одного из чингизидов от наложницы [Веселовский, 1922, 3] и поэтому с формальной точки зрения не мог претендовать на ханскую власть в Улусе Джучи (Золотой Орде). Но это обстоятельство, как известно, не помешало ему со временем стать «делателем ханов», создать крупное кочевое «государство» в Крыму и южнорусских степях, а также распространить свое политическое влияние на Дунай и Балканы, вплоть до северного византийского приграничья. Неслучайно в древнерусских летописях Ногай периодически именуется «царем» (т. е. цесарем) и, таким образом, причисляется к ханам [Веселовский, 1922, 23–24]. В настоящей статье мы хотели бы проанализировать некоторые пассажи Георгия Пахимера, посвященные темнику Ногаю, наиболее примечательные с историко-этнографической точки зрения, и сопоставить их со сведениями древнерусских летописей об этом монгольском военачальнике. Это позволит нам прояснить то, насколько адекватным было представление Георгия Пахимера о Ногае, и представить степень достоверности сообщений о монголах этого византийского историка.
Основные этапы политической биографии Ногая достаточно подробно освещены в научной литературе, посвященной страницам истории русских княжеств XIII столетия. В частности, еще Н. И. Веселовский подробно изучил сведения арабо-персидских историков об участии Ногая в кавказских войнах, которые велись золотоордынскими ханами Берке (1257-1266) и Менгу-Тимуром (1266-1282) против иранских иль-ханов Хулагу (1256–1265) и Абаки (1265–1282). Л. В. Столярова исследовала историю совместного похода Телебуги, Ногая и русских (галицко-волынских) князей на Краков в 1287/1288гг. [Столярова, 2013, 61-72]1. А.А. Горский проанализировал сложные перипетии взаимоотношений Ногая с наследниками Александра Невского, прежде всего с великим князем Дмитрием Александровичем (1276-1294), предложил новую интерпретацию событий «Дюденевой рати» 1293 г. в контексте борьбы Ногая с ханом Тохтой (1291–1313) [Горский, 2002, 130–155; Горский, 1997, 3–12]. Д. Г. Хрусталев искал истоки монгольского «ига», окончательно установившегося на Руси к началу политической карьеры Ногая, в политике Александра Невского в период «Неврюевой рати» 1252 г. [Хрусталев, 2008, 263–265]. На этом фоне проблема взаимоотношений Ногая с Византийской империей представляется еще во многом малоизученной, тем более что в центре этой проблемы находится, казалось бы, скандальный брак Ногая и незаконной дочери императора Михаила VIII Палеолога от наложницы Дипловатацины по имени Евфросиния, упомянутый в сочинении Георгия Пахимера (πρὸς τὸν Νογᾶν ἐπὶ νόθῳ τῇ Εὐφροσύνῃ φϑάσας ποιῆσαι) (Pachymérès, 1984, 442) и позднее в труде Никифора Григоры, который называет дочь Михаила Палеолога Ириной (Niceph. Greg., 1829, I, 149). Как отмечал Н. И. Веселовский, Георгий Пахимер датирует брак Евфросинии Палеолог с Ногаем 1273 г., т. е. временем, когда Ногай со своими туменами утвердился в низовьях
Дуная и совершил первые набеги на византийские владения во Фракии. Очевидно, что Михаил Палеолог, помимо естественного желания обезопасить свои северные границы, стремился также максимально использовать возможности и инструменты брачной политики для создания прочного альянса с монголами, представлявшими собой крупнейшую военную силу как в Восточной Европе, так и в Передней Азии.
Краткая предыстория знакомства ромеев с монголами, несомненно, заслуживает беглого упоминания, ибо без этого политика Михаила Палеолога по отношению к монголам вообще и к Ногаю в частности остается запутанным комплексом невнятных политических маневров. Как известно, военные успехи монголов в значительной степени были связаны с боевыми качествами созданной Чингисханом (1206–1227) армии. Воинство Чингисхана опиралось, как доказал М. В. Горелик, на боевые традиции и технологии киданьской империи Ляо. Эти традиции и технологии обеспечили монгольское доминирование в военной сфере на несколько столетий [Горелик, 2002, 16–82; Горелик, 2015, 38–52]. Завоевание Хорезма открыло монголам путь на Кавказ и в степи Северного Причерноморья. Политическая нестабильность в Хорезме, противостояние военной элиты во главе с матерью хорезмшаха и верховной власти, деградация бюрократии и брожение среди мусульманского духовенства, ярко описанные В. В. Бартольдом, представляли собой в ту эпоху полную противоположность состоянию кочевой Монгольской империи, войска которой были спаяны железной дисциплиной и нацелены на активную внешнюю экспансию [Бартольд: Туркестан, 1963, 442-494; Храпачевский, 2005, 122-278]. Первое ознакомление никейского императора Иоанна III Дуки Ватаца (1221/1222–1254) с результатами монгольского нашествия на Балканы не оставляло никаких сомнений в том, что наступает новая политическая эпоха — эпоха гегемонии чингизидов.
Как отмечает современник — византийский историк Георгий Акрополит, в 12371241 гг. орды половцев, спасаясь от Батыя, переправились через Дунай и наводнили Болгарию, где правила родственная половецким ханам династия Асеней. Оттуда половцы бежали в южную Фракию и поступили на службу Иоанну III Дуке Ватацу (Georg. Acropol., 1903, I. 53–54). Половецкие отряды были переброшены в Малую Азию: в долину реки Меандр и Пафлагонию [Korobeinikov, 2015, 29–44; Шукуров, 2017, 141–142] для охраны восточной границы Никейской империи как от сельджуков, так и от возможного нападения монгольских туменов Чормагана, которые к тому времени завоевали южный Иран и Закавказье. Впоследствии, в 1261 г., половецкие наемники принимали участие в освобождении Константинополя от крестоносцев. Осенью-зимой 1242 г., вскоре после разорения Сербии [Sophoulis, 2015, 251-277], состоялся поход Батыя на Константинополь, закончившийся разгромом Балдуина II де Куртене (1228–1273), императора Латинской империи [Madgearu, 2016, 228–235; Richard, 1992, 115–121]. Как отмечает автор старофранцузской рифмованной хроники Филипп Муске, уже в 1242 г. при дворе блистательной королевы Бланки Кастильской (1226-1236; 1248-1252) и ее сына короля Людовика IX Святого (1226-1270) получили сообщения из Греции о гибели императора Балдуина II, а в следующем году Жоффруа II де Виллардуэн, князь Ахайский, направил в Константинополь флот и войска для того, чтобы защищать от монголов жену Балдуина II — императрицу Марию де Бриенн, ибо сам Жоффруа был женат на сестре Балдуина — Агнессе де Куртене [Giebfried, 2013, 129-139]. Очевидно, слухи о гибели Балдуина были связаны с тем, что латинский император попал в плен к Батыю. Обо всех этих событиях, несомненно, знали в Никее.
В декабре 1248 г. союзник Балдуина II Людовик IX Святой, находившийся на Кипре перед вторжением в Эйюбидский Египет, принял посольство от Эльджигидея нойона — преемника Байджу, командующего монгольскими войсками в Закавказье [Митрофанов, 2008, 68-83]. В латинском переводе послания Эльджигидея королю Франции (Ms. Lat. Nr. 3768) говорилось о том, что сам великий каан Гуюк (1246–1248) принял христианство, повинуясь советам своей матери — дочери легендарного пресвитера Иоанна, о котором считали своим долгом упоминать все крупные европейские писатели эпохи крестовых походов, от Оттона Фрейзингенского и Вольфрама фон Эшенбаха до Жака де Витри и Жана де Жуанвиля. Старофранцузский перевод письма Эльджи-гидея был отправлен Людовиком во Францию Бланке Кастильской, которая в свою очередь переслала документ королю Англии Генриху III (1216–1272). Людовик отправил 16 февраля 1249 г. к великому каану Гуюку во главе с доминиканцем Андре де Лон-жюмо посольство, которое, впрочем, не добилось никаких успехов в связи со смертью Гуюка. В апреле 1251 г. посольство возвратилось ко двору Людовика Святого в Кесарию Палестинскую в сопровождении посланников от Огул Гаймыш хатун — вдовы Гуюка и регентши Монгольской империи в 1248–1251 гг. Новая правительница потребовала у Людовика дани и угрожала королю Франции войной, вследствие чего, по словам рыцаря Жана де Жуанвиля, Людовик вообще раскаялся в том, что начал дипломатические взаимоотношения с монголами (Jean de Joinville, 1995, 242-243)2.
По мнению ряда исследователей, папские послы в ходе регулярных переговоров с монголами проявляли активную заинтересованность в организации совместного крестового похода против Никейской империи, но при этом выдвигали в качестве условия крещение монгольского каана по латинскому обряду. Неудивительно, что всякий раз после предъявления великому каану подобных условий идея крестового похода на Никею повисала в воздухе. К попыткам использовать монголов в качестве тарана для сокрушения Никейской империи неоднократно возвращались Римский папа Иннокентий IV (1243–1254) и император Балдуин II. Во 2-й пол. 1240-х гг. французский рыцарь Балдуин де Эно — посол императора Балдуина II, женившийся на кипчакской (половецкой) княжне, посетил ставку Батыя и пытался вместе с папскими послами добиться от Батыя согласия на организацию крестового похода против Никейской империи. Как полагал П. И. Жаворонков, Джованни Плано Карпини и Балдуин де Эно получали специальные инструкции от папы и от Балдуина II с целью использовать союз с Батыем для подчинения Православной Церкви Римскому папе [Жаворонков, 1982, 81–90]. По свидетельству Гийома де Рубрука, Балдуин де Эно на рубеже 1240– 1250-х гг. даже совершил посольство в Каракорум в ставку великого каана, действуя от имени императора Балдуина II [Майоров, 2012, 80–94]. Впрочем, Балдуин де Эно, как посол латинского императора, находившегося после поражения во Фракии в даннической зависимости от Батыя, вероятно, не обладал в Монголии большим авторитетом, что усугублялось враждой между партией Батыя и партией Гуюка, которая чуть было не привела к гражданской войне между чингизидами. Особый акцент в отчетах папских послов, направленных из Лиона ко двору монгольских каанов, и, в частности, в отчете Джованни Плано Карпини, делается на общем благоприятном отношении к христианству самого Батыя, ставка которого была окружена несторианскими священниками [Бартольд: Мусульманские известия, 1964, 263-264; Бартольд: К вопросу, 1964, 417-418]. Но и противник Батыя Гуюк также оказывал христианам всемерное покровительство [Гумилев, 1977, 484–502]. Папские послы распространяли слухи о том, что Гуюк якобы даже принял Крещение в Каракоруме, что в перспективе могло сделать франко-монгольский союз, направленный против Никейской империи, вполне реальным. Проблема заключалась лишь в том, что Батый как победитель Балдуина II не собирался воевать против никейского императора, а великий каан Гуюк скоропостижно скончался в разгар подготовки военного похода против Батыя.
По мнению Джона Гибфрида, нападение Батыя на Болгарию и Латинскую империю в 1242 г., а затем победа монголов над сельджуками и их союзниками: грузинами и трапезундскими ромеями [Shukurov, 2005, 71–136], в битве при Кесе-Даге (26 июня или 1 июля 1243 г.) повлекли за собой крах союза, который был заключен
2 Автор настоящей статьи, как византинист и медиевист, оставляет за собой право ссылаться на сочинения византийских и западноевропейских авторов по критическим изданиям на языке оригинала, что в полной мере соответствует как научным нормам, так и традициям русской историографии. Поскольку автор не является профессиональным востоковедом, он оставляет за собой право цитировать сочинения арабо-персидских историков по профессиональным академическим переводам, вошедшим в сборники В. Г. Тизенгаузена и А. Г. Галстяна, а также в русское издание «Сборника летописей» Рашид ад-Дина.
между латинским императором Балдуином II де Куртене, болгарским царем Иоанном II Асеном (1218–1241) и сельджукским султаном Гийас-ад Дином Кей-Хосровом II (1236–1246) против Никейской империи. Мы полагаем, что участие в подобном союзе сельджукского султана достаточно проблематично, ибо уже в 1243 г., накануне злополучной битвы при Кесе-Даге, Гийас-ад Дин Кей-Хосров II просил никейского императора о помощи, что было бы с его стороны весьма наивно, если бы за год до этого сельджукский султанат был активно вовлечен в антиникейский союз. Несомненно преувеличивая влияние балканского похода Батыя на политические судьбы Никей-ской империи, Джон Гибфрид в то же время странным образом преуменьшает последствия этого похода для Латинской империи. В частности, исследователь отрицает данническую зависимость императора Балдуина II от монголов, что совершенно неубедительно, ибо подобная зависимость должна была стать естественным следствием разгрома крестоносцев во Фракии и пленения Балдуина Батыем. При этом исследователь более убедителен в том, что, с объективной точки зрения, прямым результатом разгрома латинских рыцарей монголами было укрепление положения Никейской империи, а также последующие успехи императора Иоанна III Дуки Ватаца на Балканах, которые обеспечили византийскую реконкисту и подготовили освобождение Константинополя в 1261 г. [Giebfried, 2013, 129–139]. С нашей точки зрения, подобный вывод грешит определенным упрощением, поскольку известно, что в последующие два десятилетия отношения Никейской империи и монголов в большей степени носили характер вооруженного нейтралитета, нежели военно-политического союза. Военное усиление Никейской империи, которое могло стать следствием монгольского нашествия на Балканы, сочеталось в политике Иоанна III Дуки Ватаца с традиционной для византийцев искусной и сложной дипломатией: в частности, император предотвратил вторжение монголов на никейскую территорию после битвы при Кесе-Даге и не допустил заключения папско-монгольского союза против Никеи, начав с папой переговоры об унии. Возможно, определенную роль в успехе этой дипломатии сыграл также договор императора Иоанна III Дуки Ватаца с германским императором Фридрихом II Гогенштауфеном (сицилийский король с 1197 г., германский король с 1212 г., император с 1220 г. — 1250), повлекший за собой отправку никейской армии в Италию, но, вероятно, не менее важную роль в предотвращении антиникейского союза папы и монголов впоследствии сыграли дипломатические усилия великого князя Александра Невского (1252–1263) в ставке Батыя [Майоров, 2012, 80–94].
После освобождения Константинополя от крестоносцев (в 1261 г.) новый император Михаил VIII Палеолог был вынужден противостоять мощной коалиции в лице папы Урбана IV (1261–1264), латинского императора Балдуина II де Куртене, Манфреда Сицилийского (1258–1266), Афинских герцогов и франкских баронов Беотии и Ахайи, поэтому император интуитивно искал сближения с монголами [Жаворонков, 1978, 93-101]. Политическая стратегия Михаила Палеолога, направленная на укрепление отношений с государством ильханов посредством заключения брака между незаконной дочерью, деспиной Марией, и ильханом Хулагу, достаточно подробно исследована в работах Д. А. Коробейникова. Еще в середине 1260-х гг. Михаил Палеолог согласовал условия брака Марии с монгольским правителем Ирана. Однако к тому моменту, когда Мария прибыла к своему победоносному жениху, Хулагу уже скончался, и в результате дочь императора досталась по наследству новому ильхану — Абаке [Коробейников, 2001, 428–473]. Брачная политика Михаила Палеолога, направленная на союз с монголами, в целом соответствовала старинным традициям византийской дипломатии. Михаил вполне мог вдохновляться на этом поприще примером императора Ираклия (610–641), обручившего свою дочь августу Епифанию (Евдокию) с тюркским каганом в 627 г. во время знаменитой встречи под стенами Тбилиси [Zuckerman, 1995, 113–126; Zuckerman, 1997, 473–478; Speck, 1997, 457–465; Митрофанов, 2022, 81–145], а также примером императора Юстиниана II Ринотмета (685–695; 705–711), выдавшего свою дочь от первого брака замуж за булгарского хана Тервела (700-721) и женившегося на сестре хазарского кагана Ибузира Глявана Феодоре [Golden, 1980, 182–183;
Mitrofanov, 2023, 127-146]. Стратегия императора Льва III (717-741), в 732 г. организовавшего брак своего сына Константина V (741–775) с дочерью хазарского кагана Вирхора Чичак (Ириной), была в этом отношении еще более выразительной. Менее тщательно изучена политика Михаила Палеолога в отношении Золотой Орды: с одной стороны, император восстановленной Византийской империи искал союза с иранскими монголами, а с другой — обеспечивал торговый морской коридор между Судаком и Каиром, позволявший золотоордынским монголам беспрепятственно продавать египетским мамлюкам кипчакских воинов-рабов, которые затем противостояли иранским ху-лагуидам и крестоносцам в Сирии и Палестине. Обеспечение работорговли между Золотой Ордой и египетскими мамлюками вынуждало Михаила Палеолога активно контактировать с золотоордынскими ханами и беклярбеками на Балканах [Успенский, 1926, 1–16; Успенский, 1947, 9–28; Geanakoplos, 1959, 181, 370].
Вполне вероятно, что император, столкнувшись в начале 1270-х гг.3 на Дунае с монгольскими войсками Ногая и потерпев от них поражение, приложил все усилия для того, чтобы сделать нового «тохарского» (согласно терминологии Пахимера), или же, иначе, «скифского» (по терминологии Григоры), хана своим союзником в борьбе против Болгарского царства и других конкурентов во Фракии и Северной Греции (Niceph. Greg., 1829, I. 149). Император, по-видимому, отдавал себе отчет в том, что тумены Золотой Орды представляют собой серьезную угрозу для воссозданной Византии, в чем он имел возможность убедиться во время набега войск Берке на Фракию в 1264 г. Союз Михаила с Ногаем скрепляла женитьба беклярбека на Евфросинии [Jackson, 2014, 202–203]. Браку второй незаконной дочери императора Михаила с Ногаем придавало скандальный характер еще одно обстоятельство: в отличие от иранских ильханов, Ногай, подражая своему бывшему сюзерену хану Берке, чуть ранее 1270 г. принял ислам [Тизенгаузен, 1884, 101]. И теперь Михаил Палеолог был вынужден выдать собственную дочь за повелителя степей, который являлся единоверцем анатолийских сельджуков и египетских мамлюков, т. е. с формальной точки зрения был членом исламской уммы, на протяжении многих лет воевавшим на Кавказе против союзников Михаила — иранских хулагуидов. Но подобное обстоятельство вряд ли могло остановить Михаила Палеолога на пути реализации брачного союза с Ногаем, ибо император некоторое время жил при дворе сельджукских султанов Рума, воевал против монголов на стороне султана и хорошо представлял себе как нравы мусульманских правителей, так и боевые качества монгольской конницы [Коробейников, 2005, 77–98]. Тем более что принятие ислама Ногаем, как и, несколько ранее, обращение в ислам Берке [Тизенгаузен, 1941, 16–19], было личным делом этих ханов и ничего не меняло в религиозно-политических традициях веротерпимости у самих монголов, в чем Михаил Палеолог уже имел возможность убедиться после битвы при Султан-халы в октябре 1256 г. Как известно из сообщения Пахимера, в это время Михаил скрывался у сельджуков от преследований со стороны никейского императора Феодора II Ласкариса (1254-1258) и в битве при Султан-халы командовал ромейскими (никейскими или латинскими) военными отрядами, сражавшимися против монголов на стороне сельджукского султана под императорскими боевыми стягами (^nRa^alg ва^1^1ка1д) (Pachymeres, 1984, 45) [Коробейников, 2005, 82-83]. Логично предположить, что на этих стягах был изображен Животворящий Крест, который являлся символом императорской армии со времен Ираклия. Современный византинист Константин Цукерман, развивая аргументацию В. В. Болотова и А. А. Фролова, предполагает, что Животворящее Древо Креста, захваченное войсками Хосрова II Парвиза (591–628) в Иерусалиме в 614 г., впоследствии было безвозвратно утрачено, а в 629
и 630 гг. персы возвращали Ираклию подделки в запечатанных реликвариях, выдавая их за частицы святыни [Болотов, 1907, 78; Frolow, 1953, 88–105; Zuckerman, 2013, 197–218]. Несмотря на это обстоятельство, поклонение Кресту стало концептуальным элементом благочестия императорской семьи Ираклия и Мартины, который имел важнейшее значение для последующего развития как литургического благочестия, так и политической идеологии в Византии. В частности, со времен Ираклия изображение Животворящего Древа часто чеканилось в качестве государственного символа вместе с императорскими портретами на монетах династии Ираклидов, а затем на монетах Исаврийской и Македонской династий. Но участие никейских воинов в борьбе с монголами под императорскими стягами в битве при Султан-халы впоследствии не привело ни к ухудшению положения Православной Церкви на завоеванных монголами территориях Закавказья, ни к конфликту между монголами и Никейской империей. Это обстоятельство служит еще одним подтверждением неизменности принципа веротерпимости, которому следовали монгольские ханы как в Золотой Орде, так и в государстве ильханов.
Помимо исключительно литературных зарисовок, в которых монгольский бек-лярбек предстает в качестве пренебрегающего роскошными подарками bon sauvage, Георгий Пахимер сообщает читателю о том, что первоначально Ногай был послан монгольскими ханами, правящими у Каспийских ворот (Дербента), для завоевания народов, живших в степях Северного Причерноморья и в древности подвластных ромеям. Таким образом, историк подчеркивает, что первоначально темник Ногай не был самостоятельным ханом, но лишь выполнял приказы старших чингизидов. Однако после своего утверждения в Северном Причерноморье Ногай отложился от пославших его и поработил покоренные народы, подчинив их личной власти. Историк перечисляет народы, подчинившиеся Ногаю, познакомившиеся с монгольскими обычаями, перенявшие их язык, манеру одеваться и ставшие их союзниками. К числу подобных народов Пахимер относит аланов, зикхов (черкесов), готов и русских: «Αλάνοι λέγω, Ζίκχοι Γότθοι καὶ Ρώς» (Pachymérès, 1984, 445). Упоминание этих народов позволяет сделать вывод о том, что юрисдикция Ногая распространялась не только на территории Крыма, степей Нижнего Подунавья и Поднестровья, где под его власть подпали некоторые бывшие подданные Византийской империи (половцы, крымские готы, валахи). Ногай подчинил также степи Северного Предкавказья, населенные аланами, Прикубанье, заселенное черкесами, и, наконец, контролировал территории южных русских княжеств, к числу которых, в частности, относились киевские, черниговские, курские и брянские земли. По сообщению византийского историка, благодаря этому обстоятельству монголы Ногая усилились до такой степени, что вскоре нанесли поражение старшим ханам, недовольным тем, что Ногай отложился от них. Н. И. Веселовский, комментируя этот фрагмент, предполагал, что Пахимер подразумевает знаменитый конфликт Ногая с Телебугой (Тула-Буга; 1287–1291), который закончился пленением и убийством этого хана, а затем физическим устранением его многочисленных сторонников, организованным по требованию Ногая новым ханом Тохтой. Однако Ногай стал беклярбеком и правителем собственного улуса еще при Менгу-Тимуре (1266–1282), в то время как Телебуга был в это время фактически лишь одним из князей-чингизидов, а конфликт между Ногаем и Телебугой, вероятно, возник в правление Туда-Менгу (1282–1287), в период совместных походов обоих чингизидов в Венгрию и Польшу [Горский, 2002, 130–155]. Более правдоподобно, что Пахимер описывал похождения Ногая в Северном Причерноморье много лет спустя, когда в Константинополе уже стало известно о междоусобице между Ногаем и Тохтой, разгоревшейся в 1290-е гг.
Борьба Ногая за власть в Золотой Орде принадлежит к числу важнейших эпизодов не только монгольской, но и русской средневековой истории. Упоминание этой борьбы византийским историком побуждает нас рассмотреть подобный эпизод с точки зрения его восприятия Пахимером, который прямо утверждает, что Ногай утвердился на территориях, в древности подвластных ромеям (Крым, Нижний Дунай, аланские степи Предкавказья), т. е. в известной степени являлся узурпатором не только с точки зрения золотоордынских ханов, но и с точки зрения византийцев. Возможно, акцентирование многонациональности и военных возможностей улуса, созданного Ногаем, имело значение для Пахимера как средство оправдания балканской политики Михаила Палеолога, который пытался активно использовать свой вынужденный союз с Ногаем в борьбе против своих балканских соперников: первоначально против претендента на болгарский трон Ивайло, а затем против правителя Фессалии, севасто-кратора Иоанна Дуки (Niceph. Greg., 1829, I. 149).
Своеобразный курьез представляют собой комментарии французского издателя сочинения Пахимера Альбера Фейе, который приписывает черкесским данникам Ногая сарматское происхождение и при этом видит в его русских вассалах скандинавов (!). В последнем случае Альбер Фейе интерпретирует этнические реалии XIII в., опираясь на буквальное и анахронистическое понимание византийской этнографической терминологии X в., к которой прибегал Пахимер (Pachymérès, 1984, 444–445). Разъясняя сообщения Пахимера, французский историк ссылается на поверхностную и устаревшую работу Бертольда Шпулера о Золотой Орде [Spuler, 1943, 59-77]4, игнорируя в силу непонятных причин доступные европейскому читателю работы Г. В. Вернадского (Pachymeres, 1984, 242). Указанные обстоятельства заставляют признать, что французское критическое издание труда Пахимера, подготовленное Альбером Фейе, не выполнило поставленных перед ним научных задач. В связи с этим единственной серьезной попыткой проанализировать сведения Пахимера о Ногае по-прежнему остается написанный век тому назад комментарий Н. И. Веселовского.
Н. И. Веселовский отмечал: «Едва ли основательно Пахимер причислил русских к числу добровольных союзников Ногая, хотя возможно, что некоторые русские князья по собственному почину подчинились Ногаю, чтобы найти у него поддержку в своих личных интересах» [Веселовский, 1922, 28]. В подобном предположении нет ничего невероятного, ибо участие монгольских военачальников в различных военных предприятиях русских князей фиксируется источниками в той же степени, в какой фиксируется ими участие русских князей в монгольских походах: так, например, в 1269 г. хан Менгу-Тимур (1266-1282) прислал на помощь великому князю Ярославу Ярославичу (1263–1272) тумены великого баскака Амрагана для участия в походе на Ливонию, вследствие чего ливонским рыцарям, вероятно, пришлось откупаться от монголов [Jackson, 2014, 202, 222; Хрусталев, 2018, 539-540]. Сравним теперь сообщение Пахимера с тем комплексом сведений о Ногае, которые предоставляют византинистам древнерусские летописи.
Современные исследователи достаточно подробно реконструировали динамику взаимоотношений Ногая с русскими князьями, которая демонстрирует сложный характер сюзеренитета над ними этого монгольского темника [Столярова, 2013, 61–72; Горский, 2002, 130–155]. Если участие галицко-волынских князей Льва Даниловича, Мстислава Даниловича, Юрия Львовича в походах на Литву в 1277 г. и в Венгрию в 1284/1285 гг. вместе с туменами Телебуги и Ногая действительно носило вынужденный характер и представляло собой уплату «дани кровью», то контакты Ногая и великого князя Дмитрия Александровича (1276–1294) в большей степени носили характер добровольного вассалитета со стороны этого князя; подобные контакты предполагали обоюдную заинтересованность договаривающихся сторон. Дмитрий Александрович сознательно признал себя вассалом Ногая, дабы использовать его поддержку в борьбе против брата, великого князя Андрея Александровича (1281–1304), и стоявших за ним «царевича», позднее хана Телебуги (Тула-Буга; 1287–1291) и хана Тохты (1291–1312).
Мы полагаем, что употребление терминологии, заимствованной из романогерманского феодального права, для описания отношений Ногая с русскими князьями вполне оправданно, ибо хотя монголы, разумеется, не имели ни малейшего представления об оммаже и инвеституре в романо-германском понимании этих терминов, однако хорошо известно, что кочевники евразийских степей (и монголы здесь не были исключением) знали и распространяли традиции нукерства, зародившиеся в кочевых обществах еще в скифскую эпоху. Эти традиции со временем привели к формированию у скифов и позднее у сарматов специфического дружинного протофеодализма со следами и пережитками матриархата [Хазанов, 1975, 99–263; Смирнов, 1984, 18-36], который впоследствии был унаследован кочевниками раннего Средневековья: гуннами и протомонголами (сяньбийцами) [Гумилев, 1974, 216–236; Müller, 2009, 181–193, 284–288]. В связи с этим далеко не случайно, что активное развитие феодальных институтов в Средневековой Руси началось именно после установления монгольского «ига» в середине XIII столетия.
Зимой 1279/1280 г. князь Лев Данилович Галицкий попросил помощи Ногая против поляков: «Посем же Левъ восхотех'Ь соб^ части (соб^) в землЪ Лядской, города на Въкра-ини, еха к Ногаеви, оканьномоу, проклятомоу, помочи собѣ прося у него на ляхы. Онъ же да ему помочь оканьного Кончака, и Козѣя, и Коубатана. Зимѣ же приспѣвши и тако поидоша. Левъ радъ поиде с татары и со сыном своимъ Юрьемъ» [ПСРЛ, II, 881]. Если в 1277 г. Ногай выступал в качестве сюзерена галицко-волынских князей и обязал их принять участие в походе на Литву, то два года спустя уже Лев Данилович, вассал Ногая, обращался к своему сюзерену с призывом о помощи. В поход против поляков были отправлены также дружины князя Мстислава Даниловича Луцкого и Владимира Васильковича Владимиро-Волынского — «поидоша неволею татарьскою». Причем поход завершился для Льва Даниловича неудачно: «Богъ учини надъ нимъ волю свою. Оубиша бо ляховѣ отъ полкоу его многы бояры и слоуги добрѣѣ, и татаръ часть оубиша. И тако возвратися Левъ назадъ с великымъ бещестьемъ» [ПСРЛ, II, 882].
Участие русских князей в венгерском походе Ногая и Телебуги было весьма драматическим. Уход русских дружин от монголов после разделения сил Ногая и Телебуги в районе Брашева, вероятно, был вызван отступлением Ногая на свою территорию, что поставило тумены Телебуги в сложное положение: это отступление вынудило Телебугу решиться в условиях зимы на переход через Карпаты, спровоцировало конфликт Ногая и Телебуги, вымещавшего потом злость на жителях Галицкого княжества. Летописец сообщает, что «пришедшу оканьномоу и безаконьномоу Ногаеви и Телебоузѣ с нимь на Оугры в силѣ тяжцѣ во бещисленомь множьстве. Вѣлѣша же с собою пойти русским князем: Лвови, Мьстиславоу, Володимѣроу, Юрий Львович. Володимѣръ же бяше тогда хромъ ногою и тѣмъ не идяше зане бысть рана зла на немъ… Бысть идоущоу оканьномоу и безаконьномоу Ногаеви и Телебоузѣ с нимь, воевавшима землю Оугорьскоую: Ногай поиде на Брашевъ, а Телебоуга поиде поперекъ гору, што бяшеть перейти треими деньми, и ходи по 30 днии, блудя в горахъ, водимъ гнѣвомъ Божиимъ. И бысть в них гладъ великъ, и начаша людие ясти, потом же начаша и сами измирати, и оумре их бещисленое множьство. Само-видче же такое реша: умерших бысть сто тысяч. Оканьныи же и безаконьныи Теле-боуга виде пьешь со своею женою, об одной кобыле, посрамленъ от Бога» [ПСРЛ, II, 888-891]. Еще Н. И. Веселовский подчеркивал, что кочевая знать — и чингизиды здесь не являлись исключением — всегда отправлялась в походы, имея от двух до пяти заводных, т. е. запасных, коней. Французский рыцарь Робер де Клари, участник завоевания Константинополя в 1204 г., отмечает, что каждый половецкий воин (надо полагать, знатный) имел от десятка до дюжины заводных коней, которые были непременными участниками половецких набегов (Cascuns d’aus a bien dis chevaux ou douze; si les ont si duis qu’il les sivent partout la ou il les voellent mener, si montent puis seur l’un et puis seur 1’autre) (Robert de Clari, 1956, 64). То, что Телебуга и его жена после перехода через Карпаты располагали лишь одной кобылой, говорит о масштабах катастрофы, постигшей его тумены [Веселовский, 1922, 30]. Лев Данилович был отпущен монголами в свои владения до завершения похода, так как владения Льва были атакованы в его отсутствие Мазовецким князем Болеславом [Горский, 2002, 130–155]. Как сообщает современник — египетский историк Рукнеддин Бейбарс, конфликт Телебуги и Ногая был вызван именно тем, что первый заподозрил второго в преднамеренных кознях и в оставлении своих войск без поддержки в трудный момент зимнего перехода по бездорожью [Тизенгаузен, 1884, 106-107]. При этом Бейбарс относит бедствия ту-менов Телебуги и начало конфликта двух монгольских военачальников к польскому походу, хотя очевидно, что в период польского похода получил дальнейшее развитие старый конфликт, зародившийся еще во время венгерской кампании.
Владимир Василькович, князь Владимир-Волынский, смог отказаться от участия в венгерском походе Телебуги и Ногая, сославшись на болезнь ног. Летописец отмечает, что князь страдал от какой-то «злой раны»; впоследствии он умрет от гнойного процесса в нижней челюсти, продолжавшегося около четырех лет и вызванного, по мнению Л. В. Столяровой, развитием опухоли [Столярова, 2013, 63; ПСРЛ, II, 914, 916-917]. Однако в период польского похода Телебуги и Ногая, в декабре 1286 г. (летописец описывает этот поход в двух статьях за 6791 и 6795 г. от сотворения мира [Столярова, 2013, 63]), Владимир Василькович со своей дружиной в течение некоторого времени воевал вместе с монголами: первоначально князь действовал на реке Сан совместно с туменами Телебуги, а затем, по мнению Л. В. Столяровой — еще до осады монголами Сандомира (25 декабря 1286 г.), отправился к Ногаю, осаждавшему тем временем Краков [Столярова, 2013, 70–71]. Об этом свидетельствует запись в волынской Кормчей книге: «Въ лѣто 6794 списано бысть сие Номоканон боголюбивым князем Владимиром сыном Васильковым… Пишущим же нам сия книги поехал господь наш к Нагаеви...» [Столярова, 1998, 314]. Как небезосновательно полагает исследовательница, упоминание поездки князя Владимира Васильковича к Ногаю на страницах сборника канонического права может свидетельствовать в пользу того, что этот сборник так же, как и владимиро-волынское летописание, создавался не в церковном, а в княжеском скриптории [Столярова, 2013, 72]. Это обстоятельство имеет важное значение как с точки зрения истории источников канонического права Средневековой Руси, так и с точки зрения исследования рецепции на Руси византийской книжной культуры. Существование княжеского скриптория, в котором создавались исторические книги и канонические сборники, представляет собой во многом уникальное для XIII в. явление и свидетельствует об интенсивном византийском культурном влиянии при дворе владимиро-волынских князей в этот период. С этой точки зрения военно-политическая зависимость Владимира от Ногая должна была производить на современников тем более угнетающее впечатление. Для Владимира поход завершился тем, что князь почувствовал обострение болезни и на реке Сан повернул назад [ПСРЛ, II, 893, 897].
Во втором случае альянсу Дмитрия Александровича с Ногаем предшествовали события, связанные с вооруженной борьбой Дмитрия с братом Андреем, который опирался на поддержку в Сарае. Зимой 1281/1282 г. новый хан Туда-Менгу направил против великого князя Дмитрия, на Переяславль, тумены Ковыдая и Алчедая, вместе с которыми действовали князья Федор Ростиславович Ярославский, Михаил Иванович Стародубский и Константин Борисович Ростовский. Целью похода было поддержать претензии Андрея Александровича на великое княжение и на новгородский стол. Монголы опустошили Муром, владимирские и тверские земли: «татарове же разсы-пашася по земли, Муромъ пустъ сътвориша, около Володимеря, около Юрьева, около Суздаля, около Переяславля все пусть сътвориша и пограбиша люди, мужи и жены, и дѣти, и младенци, имѣнiе то все пограбиша и поведоша в полонъ» [ПСРЛ, XVIII, 78].
Примечательно, что князь Федор Ростиславович Черный вторым браком был женат на монгольской княжне Анне Менгу-Тимуровне (Тохтовне), дочери хана Менгу-Тимура или же, по другой версии, хана Тохты [Иоанн Вендланд, 1990, 31–37; Александров, Пчелов, 1994, 37–38]. Это обстоятельство как минимум свидетельствует о серьезных связях Федора Ростиславовича при сарайском дворе. Монгольский брак этого князя не был явлением уникальным. Еще в 1257 г. (в правление Берке) у «Кановичь», т. е. при дворе великого каана Мункэ (1251–1259) в Каракоруме, был заключен брак князя Глеба Васильковича Белозерского со знатной монгольской женщиной [ПСРЛ, I. 3, 524], крещенной с именем Феодора, которую Г. В. Вернадский считал княжной из правящего рода чингизидов [Вернадский, 2004, 176]. Позднее, в 1302 г., князь Константин Борисович Ростовский женился на монгольской княжне, дочери некого хана «Кутлукоркты», а князь Федор Михайлович Белозерский взял в жены дочь хана «Велъбласмыша» (Ильбасмыша, сына Тохты) [ПСРЛ, I. 3, 528]. В 1305 г. князь Михаил Андреевич Нижегородский сочетался браком с монгольской аристократкой. Наиболее знаменитым прецедентом монгольского брака русских князей стал брак князя Юрия Даниловича Московского с дочерью хана Узбека (1313–1341) Кончакой (Агафьей) в 1315–1317 гг. Армянский историк XIII в. Григор Акнерци свидетельствует, что «тому, кого монголы уважают и почитают, они дают в жену одну из своих знатных женщин». Как отмечает П. О. Рыкин, даже брак со знатной монгольской женщиной не ханского рода представлен в источниках как большой почет [Рыкин, 2003, 29]. Традиция браков русских князей с монгольскими аристократками представляет собой красноречивое свидетельство нукерского, т. е. вассально-сеньориального характера отношений между русскими князьями и монгольскими ханами; эта традиция опровергает стереотипные представления о «татаро-монгольском иге» и о «порабощении» Руси монголами. Политические традиции кочевников евразийских степей предполагали, что знатную женщину можно отдать в жены младшему союзнику, а не рабу. Брачные узы русских князей и монгольских аристократок сами по себе фиксировали факт включения русской политической элиты в сложную систему родовых отношений, заложенную в основу империи чингизидов. Русские князья не были здесь оригинальны; похожая система установления «нукерства» через заключение династических браков утвердилась в отношениях между монголами, а также армянскими и грузинскими князьями со времен Чормагана (с 1236 г.), правда, в отличие от Руси, армянские и грузинские правители, как правило, были гораздо более лояльны монголам и принимали самое активное участие практически во всех военных кампаниях монгольских войск на Ближнем Востоке [Галстян, 1962, 12–22; Галстян, 1977, 166–185]. Не исключено, что традиция заключения браков русских князей и знатных монгольских женщин представляла собой трансформацию более раннего монгольского обычая, который предполагал, по мнению А. В. Майорова, уступку нукером своему хану собственной жены или вступление нукера в брак по повелению хана. Как полагал исследователь, именно требование Батыя, выдвинутое князю Федору Рязанскому, выдать в ханский гарем супругу, возможно, никейскую принцессу — родственницу императора Иоанна III Дуки Ватаца, повлекло за собой закономерный отказ, убийство князя монголами и последующее разорение Рязанского княжества [Майоров, 2021, 124–199]. С этой точки зрения представляется очевидным, что брачная стратегия Михаила Палеолога, выдавшего за Ногая свою незаконную дочь Евфросинию (а за иль-хана Абаку — другую незаконную дочь Марию), не только соответствовала старинным принципам византийской дипломатии, но также отвечала нормам монгольского обычного права, зафиксированного в «Ясе» Чингисхана.
Вскоре после завершения похода Ковыдая и Алчадая с союзниками Дмитрий Александрович смог восстановить свой статус великого князя, и это обстоятельство спровоцировало новое вторжение монголов под командованием Туратемира и Алыня, поддержавших Андрея Александровича. Князь Дмитрий после этого «съ своею дружиною отьѣха в Орду к царю татарскому Ногою» [ПСРЛ, XVIII, 78; ПСРЛ, IV. 1. 1, 245; ПСРЛ, V, 199]. Летописец здесь прямо называет Ногая «царем», т. е. фактически признает его политический статус как статус хана, что, вероятно, соответствовало условиям вассального договора, заключенного князем Дмитрием с грозным темником. Сложные отношения Ногая с южно-русскими князьями в это время иллюстрирует знаменитая летописная новелла о злоупотреблениях Ногаева баскака Ахмата в курских землях, которые привели его к конфликту с князьями Олегом Мстиславичем Воргольским и Рыльским и Святославом Липовичским, апеллировавшими к Телебуге [ПСРЛ, XVIII, 79–81]. В конце 1283 г. Дмитрий вернулся с монгольскими отрядами, присланными Ногаем, по-видимому, на время примирился с братом и атаковал своих противников под Новгородом: «приде Дмитрии князь с братомъ своимъ Андрѣемъ, ратью к Новугороду и с татары и со всею Низовьского землею, и много зла учиниша, волости пожгоша, и пришедше, сташа на Коречкѣ и створиша миръ; и сѣде Дмитрии в Нов^город^ на столТ своемъ» [ПСРЛ, IV. 1. 1, 246]. Борьба новгородцев против политического явления, которое А. В. Петров определяет как «княжеский произвол» [Петров, 2003, 226–236], на сей раз закончилась поражением благодаря монгольской военной помощи князю Дмитрию. Наконец, в 1285 г. «князь Андреи приведе царевича, и много зла сътворися крестьяномъ. Дмитрии же, съчтався съ братьею, царевича прогна, а боляры Андрѣевы изнима» [ПСРЛ, V, 201; ПСРЛ, I. 3, 526]. Конфликт между Дмитрием и Андреем возобновился. Князь Андрей привел на Русь монгольские войска во главе с каким-то «царевичем», т.е. князем-чингизидом, возможно, самим Телебугой, который мог воспринимать ставленника Ногая князя Дмитрия как потенциальную угрозу своему авторитету в Сарае. Дмитрий же нанес «царевичу» поражение, вероятно, опираясь не только на свою дружину, но и на военную помощь Ногая.
История взаимоотношений Ногая и русских князей после убийства Телебуги в 1291 г. [Тизенгаузен, 1884, 107-108]5, в частности политическая подоплека нагрянувшей в 1293 г. на северо-восточные русские княжества «Дюденевой рати» [ПСРЛ, XVIII, 82; ПСРЛ, IV. 1. 1, 248; ПСРЛ, I. 3, 527], а также обстоятельства гибели Ногая в битве с войсками Тохты в 1299/1300 г. от удара служившего Тохте русского витязя [ПСРЛ, XVIII, 83; Тизенгаузен, 1884, 113–115; Веселовский, 1922, 48–50] были подробно исследованы А. А. Горским в уже цитированной выше публикации. Ученый высказал предположение, что междоусобицы между Ногаем и сарайскими ханами имели два важных результата. Во-первых, благодаря альянсу Ногая с Дмитрием Александровичем и его сторонниками был окончательно упразднен институт баскаков, и теперь дань для монголов собирали и передавали сами русские князья (задолго до пресловутого скряжничества Ивана Калиты). Во-вторых, отъезд после гибели Ногая большого количества русских служилых людей из киевских и черниговских земель, прежде служивших князьям проногайской ориентации, во владения князей — сторонников Тохты, стал одной из причин усиления Московского княжества после 1300 г. Примечательно, что после гибели Ногая подобным же образом поступили подчиненные ему аланские племенные вожди, точно так же «отъехавшие» на Балканы и поступившие на службу византийскому императору Андронику II (Pachymérès, 1984, 444). Вероятно, именно эти аланские отряды, сформировавшие личную гвардию Михаила IX (1294– 1320), сыграли впоследствии роковую роль в убийстве Рожера де Флора (в 1305 г.) и спровоцировали мятеж каталанской кампании.
Подобные выводы, важные в контексте внутренней истории Средневековой Руси, могут быть полезны также и для византинистов. Сопоставление динамики отношений Ногая с русскими князьями, известной из древнерусских летописей, со сведениями Пахимера о «добровольном» подчинении русских Ногаю, о заимствовании русскими князьями монгольского языка, обычаев и одежды позволяет нам сделать вывод, подтверждающий существование «побратимства» и «нукерства», т. е. вассальносеньориального характера отношений русских князей и монгольских ханов, по-ви-димому, пришедшего во 2-й пол. XIII в. на смену первоначальной Батыевой модели подданства и данничества. Возможно, Ногай, женившийся на Евфросинии Палеолог, также рассматривал свой брак с дочерью византийского императора как форму «ну-керства», т. е. вассально-сеньориального договора с новым вассалом — Михаилом Палеологом, следуя примеру тех монгольских ханов Золотой Орды, которые выдавали монгольских аристократок за русских князей и таким образом включали этих князей в правящий род чингизидов на правах младших «братьев». Михаил Палеолог, нуждавшийся в военной помощи Ногая в 1270-х — начале 1280-х гг., сам указал модель взаимоотношений с могущественным монгольским темником тем русским князьям, которые опирались на его помощь в ходе междоусобиц последнего десятилетия XIII в.
Вместе с тем нельзя также исключать и того, что великий князь Андрей Александрович и его союзники, придерживавшиеся «антиногаевской» ориентации, каким-то образом согласовывали свои действия с Михаилом Палеологом, используя в качестве «связного» сарайского митрополита. По свидетельству летописца, зимой 1279/1280 г. «прiѣха Феогностъ, епископъ Сараискыи, изъ грекъ, посыланъ митрополитомъ къ патрiарху и царемъ Менгутемеромъ къ царю греческому Палеологу» [ПСРЛ, XVIII, 77]. Примечательно, что летописец не только признает золотоордынского хана Менгу-Тимура царем (цесарем), но упоминает его с царским титулом в одном ряду с византийским императором, подчеркивая тем самым как равенство двух правителей, так и посольский статус сарайского митрополита. Подобная констатация объективной политической ситуации слабо сочеталась с традиционными представлениями о русском князе как о христианском воине. Как показал А. Е. Мусин, изучение «рыцарского доспеха Древней Руси» свидетельствует о том, что воинская символика княжеской власти была пропитана христианскими мотивами и идеями, символизировала собой «весну» Средневековья. Примером этого может служить знаменитый шлем князя Ярослава Всеволодовича с иконографическим изображением Архангела Михаила и молитвенной инвокацией [Мусин, 2005, 288–293]. Теперь же, после утверждения на Руси монголов, сложилась парадоксальная ситуация: русские православные князья, которые уже давно (как минимум с рубежа XI/XII вв.) не были «архонтами» (федератами) православного византийского императора, были вынуждены становиться «нукерами», т. е. вассалами, «поганого» языческого царя, сидевшего в Сарае.
Если наше предположение справедливо и сарайский митрополит действительно координировал действия Андрея Александровича и его сторонников от имени Михаила Палеолога, то в таком случае необходимо рассматривать Михаила Палеолога в качестве приверженца старинных принципов византийской дипломатии, заложенных еще Юстинианом I (527–565). В древности Юстиниан заключил союз с утигурами для уничтожения кутригуров. Теперь же Михаил Палеолог, использовавший союз с Ногаем для укрепления империи на Балканах, мог одновременно сдерживать могущество своего зятя, поддерживая его противников в Сарае и в Северо-Восточной Руси.
Отсутствие половцев (куманов) в перечне народов Северного Причерноморья, покоренных Ногаем, который приводит Георгий Пахимер, может свидетельствовать о том, что к моменту создания Ногаева «улуса» половецкая ханская аристократия была либо полностью вырезана монголами, либо растворилась в среде рядовых дружинников, включавшихся в состав монгольских войск еще в период военных кампаний Батыя в 1238–1242 гг. Как отмечал М. В. Горелик, археологические материалы дают основание предполагать реальность присутствия незначительного количества уцелевших представителей половецкой знати на золотоордынской службе [Горелик,
2010, 127–186]. Не исключено, что один из половецких ханов, принятый на службу завоевателями, был погребен в знаменитом Чингульском кургане (2-я пол. XIII в.), из которого происходит известный золоченый шлем с наносником и кольчужной бармицей. Однако активная замена тюркской племенной номенклатуры в Золотой Орде монгольской номенклатурой говорит о том, что половецкий элемент, в основном потерявший свою аристократию в ходе монгольского террора, быстро утратил свое этнополитическое своеобразие и растворился в общеордынской массе подвластных чингизидам кочевых племен [Горелик, 2015, 38–52].
Повествование Георгия Пахимера о Ногае свидетельствует о том, что, описывая византийско-золотоордынские отношения времен царствования Михаила Палеолога, историк вряд ли имел возможность воспользоваться дипломатическими документами. Однако образ Ногая, представление о могуществе грозного темника, которые запечатлелись в сочинении Пахимера, бесспорно свидетельствуют о повышенном внимании и интересе образованного византийского общества в эпоху первых Палеологов как к самим монголам, так и к народам, входившим в орбиту монгольского политического влияния.
Подобный вывод сам по себе был бы вполне тривиальным, если бы сопоставление сообщения Георгия Пахимера и сведений древнерусских летописей о Ногае не дало нам возможность сделать неожиданное предположение. По всей видимости, Михаил Палеолог, отдавая Ногаю в жены свою дочь, не только копировал старинную византийскую политическую традицию времен Ираклия (610–641), Юстиниана II Ринотмета (685–695 и 705–711) и Льва III Исавра (717–741), предполагавшую заключение брачных договоров с могущественными вождями кочевников, но, вполне сознательно вступая в родственные отношения с чингизидами, подобно русским князьям признавал себя «нукером» Ногая, т. е. соглашался принять своего рода вассальную зависимость от монгольского темника. Каким бы смелым ни было подобное предположение, оно в полной мере соответствует политической практике и брачной политике чингизидов, сложившейся во 2-й пол. XIII столетия [Порсин, 2014, 29-40]. И хотя, как отмечает А. А. Порсин, конкретные условия договора между Михаилом и Ногаем нам неизвестны [Порсин, 2011, 21], мы предполагаем, что гипотеза о фактическом превращении Михаила Палеолога в Ногаева «нукера» определенным образом проливает свет на загадочные обстоятельства смерти византийского императора в период его совместной с монголами военной кампании на Балканах; эти обстоятельства сильно напоминают смерть великого князя Ярослава Всеволодовича (1236–1246), ставшего данником Батыя, а затем отравленного в Орде при дворе великого каана. В период византийско-монгольского военного похода Михаил Палеолог мог быть точно так же отравлен агентами золотоордынских противников своего могущественного зятя.
Список литературы Темник Ногай в повествовании Георгия Пахимера: к вопросу об отношениях монгольского беклярбека и византийского императора
- Галстян (1962) — Галстян А.Г. Армянские источники о монголах. Извлечения из рукописей XШ-XIV вв. / Пер. с древнеармянского, пред. и прим. А. Г. Галстяна. М.: Изд-во восточной литературы, 1962.
- ПСРЛ (I. 3) — Лаврентьевская летопись. Т. I. Вып. 3: Продолжение Лаврентьевской летописи по академическому списку. Л.: Изд-во АН СССР, 1928.
- ПСРЛ (II) — Полное собрание русских летописей. Т. II: Ипатьевская летопись / Под. ред. А. А. Шахматова. СПб., 1908.
- ПСРЛ (IV. 1. 1) — Полное собрание русских летописей. Т. IV. Ч. 1. Вып. 1: Новгородская 4-я летопись / Под. ред. Ф. И. Покровского и А. А. Шахматова. Пг., 1915.
- ПСРЛ (V) — Полное собрание русских летописей. T. V: Псковские и Софийские летописи. СПб., 1851.
- ПСРЛ (XVIII) — Полное собрание русских летописей. T. XVIII: Симеоновская летопись / Под. ред. А. Е. Преснякова. СПб., 1913.
- Рашид ад-Дин (1960) — Рашид ад-Дин. Сборник летописей / Пер. с перс. Ю. П. Верхов-ского. М., Л.: Изд-во АН СССР. 1960. T. 2.
- Tизенгаузен (1884) — Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. T. I: Извлечения из сочинений арабских. СПб.: Издано иждивением графа Строганова, 1884.
- Tизенгаузен (1941) — Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. T. II: Извлечения из персидских сочинений, собранные В. Г. Tизенгаузеном и обработанные А. А. Ромаскевичем и С. Л. Волиным. М., Л: Изд-во АН СССР, 1941.
- Georg. Acropol. (1903) — Georgii Acropolitae Opera / Hrsg. v. August Heisenberg. Leipzig: Teubner, 1903. Vol. I.
- Jean de Joinville (1995) — Jean de Joinville. Vie de Saint Louis / Ed. par J. Monfrin. Paris, 1995.
- Niceph. Greg. (1829) — Nicephori Gregorae Byzantina Historia / Hrsg. v. Ludwig Schopen. Bonn: Weber, 1829. Vol. I.
- Pachymérès (1984) — Pachymérès Georges. Relations historiques / Par Albert Failler. Paris: Les Belles Lettres, 1984. Vol. I.
- Robert de Clari (1956) — Robert de Clari. La Conquête de Constantinople / Ed. par P. Lauer. Paris: H. Champion, 1956.
- Александров, Пчелов (1994) — Александров Д.Н., Пчелов Е.В. О происхождении ярославских князей от Чингизидов // Ярославская старина. 1994. Вып. 1. С. 3-38.
- Бартольд: К вопросу (1964) — Бартольд В. В. К вопросу о Чингизидах-христианах // Бар-тольд В. В. Сочинения. T. II. Ч. 2: Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии. М., 1964. С. 417-418.
- Бартольд: Мусульманские известия (1964) — Бартольд В.В. Мусульманские известия о Чингизидах-христианах // Бартольд В.В. Сочинения. T.II. Ч.2: Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии. М., 1964. С. 263-264.
- Бартольд: Туркестан (1963) — Бартольд В.В. Tуркестан в эпоху монгольского нашествия // Бартольд В. В. Сочинения. М., 1963. T. I.
- Болотов (1907) — Болотов В.В. К истории императора Ираклия // Византийский Временник. 1907. T. XIV. C. 68-124.
- Бронников (2019) — Бронников В.Л. История полка русской гвардии в империи Юань в исследованиях русских историков-эмигрантов // Tюркологические исследования. 2019. № 2 (4). С. 5-22.
- Вернадский (1997) — Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Tверь; М.: Леан; Аграф, 1997.
- Веселовский (1922) — Веселовский Н. И. Xан из темников Золотой Орды Ногай и его время. Пг., 1922.
- Галстян (1977)—Галстян А. Г. Завоевание Армении монгольскими войсками // Tатаро-монголы в Азии и Европе. М.: Наука, 1977. С. 166-185.
- Горелик (2002) — Горелик М. В. Армии монголо-татар в X-XIV веках. Воинское искусство, оружие, снаряжение, М., 2002.
- Горелик (2010) — Горелик М.В. Половецкая знать на золотоордынской военной службе // Роль номадов евразийских степей в развитии мирового военного искусства. Научные чтения памяти Н. Э. Масанова. Алматы, 2010. С. 127-186.
- Горелик (2015) — Горелик М.В. Вооружение и военная организация войск Монгольской империи (первая половина XIII века) // Золотоордынская цивилизация. 2015. №8. С. 38-52.
- Горский (1997) — Горский A.A. К вопросу о причинах «возвышения» Москвы // Отечественная история. 1997. № 1. С. 3-12.
- Горский (2002) — Горский А. А. Ногай и Русь // Тюркологический сборник 2001. Золотая Орда и ее наследие. М.: Восточная литература, 2002. С. 130-155.
- Гумилев (1974) — Гумилев Л.Н. Хунны в Китае. Три века войны Китая со степными народами. III-VI вв. М.: ГРВЛ, 1974.
- Гумилев (1977) — Гумилев Л.Н. «Тайная» и «явная» история монголов XII-XIII вв. // Татаро-монголы в Азии и Европе. М.: Наука, 1977. С. 484-502.
- Жаворонков (1978) — Жаворонков П.И. Никейская империя и Восток (Взаимоотношения с Иконийским султанатом, татаро-монголами и Киликийской Арменией в 40-50-е годы XIII в.) // Византийский временник. М., 1978. Т. 39 (64). С. 93-101.
- Жаворонков (1982) — Жаворонков П.И. Никейская империя и княжества Древней Руси // Византийский временник. М., 1982. Т. 43. С. 81-90.
- Иоанн Венланд (1990) — Иоанн (Вендланд), митр. Князь Фёдор. Исторический очерк. Ярославль, 1990.
- Коробейников (2001) — Коробейников Д.А. Византия и государство Ильханов в XIII — начале XIV века: система внешней политики империи // Византия между Западом и Востоком. Опыт исторической характеристики / Под ред. Г. Г. Литаврина. СПб.: Алетейя, 2001. С. 428-473.
- Коробейников (2005) — Коробейников Д.А. Михаил Палеолог в Румском султанате // Византийский временник. М., 2005. Т. 64 (89). С. 77-98.
- Майоров (2012) — Майоров А. В. Монгольская угроза и экуменические процессы середины XIII века // Евразия: духовные традиции народов. 2012. № 3. С. 80-94.
- Майоров (2021) — Майоров А.В. Женщина, дипломатия и война: русские князья в переговорах с Бату накануне монгольского нашествия // Шаги / Steps. 2021. Т.7. №3. С. 124-199.
- Митрофанов (2008) — Митрофанов А. Ю. Людовик IX и Хетум I: Неудавшийся церковно-политический альянс // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени: Межвуз. сб. под ред. Г. Е. Лебедевой. СПб., 2008. Вып. 7. С. 68-83.
- Митрофанов (2022) — Митрофанов А. Ю. Брак августы Епифании с тюрком: исторический факт или глава приключенческого романа // Proslogion: Studies in Medieval and Early Modern Social History and Culture. 2022. Vol. 6 (2). P. 81-145.
- Мусин (2005) — Мусин А.Е. Milites Christi Древней Руси. Воинская культура русского средневековья в контексте религиозного менталитета. СПб.: Петербургское востоковедение, 2005.
- Петров (2003) — Петров А.В. От язычества к Святой Руси. Новгородские усобицы: к изучению древнерусского вечевого уклада. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003.
- Порсин (2015) — Порсин А.А. К вопросу об участии Ногая в походе на Константинополь 1265 года // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 15 (196). История. Вып. 40. С. 34-36.
- Порсин (2014) — Порсин A.A. Ногай и его роль в политической жизни Золотой Орды в 90-е годы XIII века // Золотоордынская цивилизация. 2014. № 7. С. 29-40.
- Порсин (2011) — Порсин А.А. Политическая деятельность Ногая в Золотой Орде (1262-1301 годы): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2011.
- Рыкин (2003) — Рыкин П. О. Монгольская концепция родства как фактор отношений с русскими князьями: социальные практики и культурный контекст // Mongolica VI. Сборник к 150-летию со дня рождения А. М. Поздеева / Сост. И. В. Кульганек. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. С. 28-28.
- Смирнов (1984) — Смирнов К.Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. М., 1984.
- Столярова (1998) — Столярова Л.В. Древнерусские надписи XI-XIV вв. на пергаменных кодексах. М., 1998.
- Столярова (2013) — Столярова Л.В. Краковский поход Телебуги и Ногая (Историко-географический аспект) // Проблемы истории России. Екатеринбург: Волот, 2013. Вып. 10: Исторический источник и исторический контекст. С. 61-72.
- Успенский (1926) — Успенский Ф.И. Византийские историки о монголах и египетских мамелюках // Византийский Временник. Л., 1926. Т. 24. С. 1-16.
- Успенский (1947) — Успенский Ф.И. Движение народов из Центральной Азии в Европу. I. Турки. II. Монголы // Византийский Временник. М., 1947. Т. 1 (26). С. 10-28.
- Хазанов (1975) — Хазанов А.М. Социальная история скифов. Основные проблемы развития древних кочевников евразийских степей. М., 1975.
- Храпачевский (2005) — Храпачевский Р.П. Военная держава Чингисхана. М.: Люкс, 2005.
- Хрусталев (2008) — Хрусталев Д. Г. Русь: от нашествия до «ига»: 30-40-е гг. XIII в. СПб.: Евразия, 2008.
- Хрусталев (2018) — Хрусталев Д.Г. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII-XIII вв. СПб., 2018.
- Шпулер (2016) — Шпулер Б. Золотая Орда. Монголы в России. 1223-1502 гг. / Пер. М. С. Гатина. Казань: АН ТР, 2016.
- Шукуров (2017) — Шукуров Р.М. Тюрки в византийском мире (1204-1461). М.: Изд-во МГУ, 2017.
- Frolow (1953) — Frolow A. La Vraie Croix et les expéditions d'Héraclius en Perse // Revue des études byzantines. 1953. Vol. 11. P. 88-105.
- Geanakoplos (1959) — Geanakoplos D.J. Emperor Michael Palaeologus and the West, 12581282: а Study in Byzantine-Latin Relations. Cambridge, Mass.: Harvard University Press; London: Oxford University Press, 1959.
- Giebfried (2013) — Giebfried J. The Mongol invasions and the Aegean world (1241-1261) // Mediterranean Historical Review. 2013. Vol. 28 (2). P. 129-139.
- Golden (1980) — Golden P. Khazar Studies. An Historico-Philological Inquiry into the Origins of the Khazars. Budapest: Akademiai Kiado, 1980. Vol. I.
- Jackson (2014) — Jackson P. The Mongols and the West, 1221-1410. London; New York: Routledge, 2014.
- Korobeinikov (2015) — KorobeinikovD. The Cumans in Paphlagonia // Karadeniz incelemeleri Dergisi. 2015. Vol. 18. P. 29-44.
- Madgearu (2016) — Madgearu A. The Asanids: The Political and Military History of the Second Bulgarian Empire (1185-1280). Leiden, 2016. P. 228-235.
- Mitrofanov (2023) — Mitrofanov A. The Lord's gift transformed into a tiger: A hypothesis regarding the fate of the Empress Theodora of Khazaria (705-711) // Byzantinische Zeitschrift. 2023. Vol. 116(1). S. 127-146.
- Müller (2009) — Müller S. Horses of the Xianbei, 300-600 AD: A Brief Survey // Pferde in Asien: Geschichte, Handel und Kultur / Horses in Asia: History, Trade and Culture / Ed. by B. G. Fragner, R. Kauz, R. Ptok et A. Schottenhammel. 2009. P. 181-193, 284-288.
- Richard (1992) — Richard J. À propos de la mission de Baudouin de Hainaut: L'Empire Latin de Constantinople et les mongoles // Journal des savants. 1992. No. 1. P. 115-121.
- Sophoulis (2015) — Sophoulis P. The Mongol Invasion of Croatia and Serbia in 1242 // Fragmenta Hellenoslavica. 2015. No. 2. P. 251-277.
- Speck (1997) — Speck P. Épiphania et Martine sur les monnaies d'Héraclius // Revue Numismatique. 1997. P. 457-465.
- Spuler (1943) — Spuler B. Die Goldene Horde: Die Mongolen in Rußland, 1223-1502. Leipzig: Otto Harrassowitz, 1943.
- Shukurov (2005) — Shukurov R.. Trebizond and the Seljuks (1204-1299) // Mesogeios. 2005. Vol. 25-26. P. 71-136.
- Zuckerman (1995) — Zuckerman C. La petite Augusta et le Turc. Epiphania-Eudocie sur les monnaies d'Héraclius // Revue Numismatique. 1995. P. 113-126.
- Zuckerman (1997) — Zuckerman C. Au sujet de la petite Augusta sur les monnaies d'Héraclius // Revue Numismatique. 1997. P. 473-478.
- Zuckerman (2013) — Zuckerman C. Heraclius and the return of the Holy Cross // Constructing the Seventh Century / Ed. by C. Zuckerman. Paris, 2013. P. 197-218.