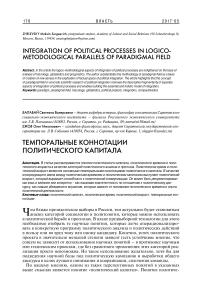Темпоральные коннотации политического капитала
Автор: Балабай Светлана Валерьевна, Ежов Олег Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 5, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются понятия политического капитала, политического времени и политического возраста в качестве категорий политического анализа и прогноза. Политическое время и политический возраст являются основными темпоральными коннотациями политического капитала. В качестве опосредующего звена между политическим временем и политическим капиталом выступает политический возраст, который выражает способность к политической коммуникации. Он может быть репрезентирован как язык и влияние или конкретно - как языковая компетентность по отношению к политическому дискурсу, как навыки убеждения и внушения, которые зависимы от понимания политического времени и опыта политической деятельности.
Политический капитал, политическое время, политический возраст, темпоральные коннотации
Короткий адрес: https://sciup.org/170168789
IDR: 170168789
Текст научной статьи Темпоральные коннотации политического капитала
Ч ем ближе президентские выборы в России, тем актуальнее будет становиться анализ категорий социологии и политологии, которые можно использовать в политической борьбе и прогнозах. В плане предвыборной технологии для этого необходимо отобрать те научные понятия, которые легче операционализиро-вать в конкретную программу политического анализа и политических действий в пользу или во вред тому или иному кандидату. Конечно, успех политического проекта в значительно меньшей степени зависит (есть устойчивое мнение, что совсем не зависит) от использования научных понятий – в противовес научным или техническим проектам, где без грамотного применения этих категорий реализация просто невозможна. Но такое использование желательно, хотя бы для подведения научной базы под политическую кампанию и выработки общего дискурса в целях лучшего понимания и координации, сплочения команды.
По нашему мнению, одним из таких перспективных понятий в указанных выше смыслах является понятие «политический капитал». Понятие политиче- ского капитала давно и прочно вошло не только в обыденный язык и язык СМИ, но и в арсенал научных концепций. Классической здесь является теория поля П. Бурдье, который представляет социальный мир в виде социального пространства, сконструированного исходя из принципов деления и распределения совокупности активных свойств агентов. «Макропеременные, обобщающие исходные социологические величины – активные свойства, положенные в основу построения социального пространства, – П. Бурдье называет “капиталами”. Капитал дает власть распоряжаться продуктом деятельности, в котором опред-мечены прошлые практики (в частности – над совокупностью средств производства), а также механизмами производства определенной продукции, а через это – власть над (материальными и символическими) доходами и прибылью от производства. Поскольку капитал есть возможность распоряжаться необходимыми условиями и предпосылками практик, он есть в то же время силовая структура – структура господства и власти над другими агентами» [Бурдье 2007: 558-559].
Таким образом, базовым элементом капитала у П. Бурдье является политический капитал в широком смысле слова, который можно было бы интерпретировать как капитал доминирования в социобиологическом, а не экономическом контексте. Похожую на это функцию выполняет у Бурдье личный, или героический, профетический капитал, который исчезает вместе с человеком. Но ученого больше занимает вопрос делегированного капитала политического авторитета, который является результатом ограниченного и временного переноса капитала институции [Бурдье 1993: 211-212]. Это политический капитал объективированного поля политического действия, овеществленный в институции и ею контролируемый.
Политическое действие по сути своей – творческий акт, требующий мобилизации власти через применение силы. Но насилие – крайний случай, а нормальная ситуация предполагает обеспечение готовности к исполнению решений. Не осуществление санкций, а угроза или перспектива их применения составляет подлинное искусство власти, ибо маскирует недостаток ресурсов для непрерывного давления на объект подчинения. Получается так, что существенная часть механизма господства находится внутри сознания подчиняющихся и базируется на опыте прошлого и ожиданиях будущего в случае того или иного поведения. Поэтому совершенно естественным выглядит апелляция власти к прошлому (в целях легитимации своего положения) и обращение к будущему для оправдания своей политики в настоящем. «Модусы времени в данном случае представляют собой измерения общественного сознания, которое расширяет временные границы презентивного от природы сознания индивидов» [Балабай 2016: 105].
Собственно, это и обеспечивает политический капитал. «Собственный политический капитал – это, во-первых, обладание монополией на насилие в виде полиции и армии. Это поддержка и сотрудничество членов правительства, партийных и административных аппаратов, которые разрабатывают и реализуют общеобязательные решения. Это распределение налоговых поступлений для финансирования всего государственного аппарата и обеспечения разработки и реализации решений. Это мандаты на принятие общеобязательных решений, наличие легитимного права на использование политической власти в конституционных рамках. Наконец, это легитимность самих решений, их соответствие целям и задачам, которые декларируются конституцией» [Munch 1995: 167].
Кроме административного аспекта, собственно политический капитал аккумулирует в себе репутацию и влияние, которым обладает политик. Если репутационный капитал политика – это оценка доверия к нему, его надежности в проведении коллективно одобряемого курса, то представительный капитал – это оценка степени влияния политика на формирование данного политического курса. По сути, это вектор развития – стрела времени, которая формируется из опыта и стажа службы на руководящих должностях. Таким образом, политический капитал, репутационный и представительный, – это продукт отношений между общественным мнением, политической должностью и политическими заслугами. Это весьма актуально для современной России, где остро стоит задача расширения диалога меду властью и народом [Ефимова 2015: 166].
В содержании политического каптала мы видим характеристики стратификационного пространства, которое является основой социального пространства в широком смысле, а в узком – включено в область политического пространства властных отношений. Но, с другой стороны, налицо временнóе измерение данных отношений. Уже давно принято считать, что пространство существует совместно со временем и разделять их можно только аналитически.
Пространственный контекст политического капитала более очевиден, чем временной. Но как и за зримой (в т.ч. и буквальной) глобализацией пространства скрывается умозрительная часть глобализации времени, так и темпоральный смысл понятия «политический капитал» намного важнее пространственного. «Политика является сегодня составной частью повышенного динамизма общественных процессов, который находит свое выражение в быстрой смене ситуаций, в неопределенности, непредсказуемости и противоречивости как самих действий и событий, так и их последствий. Необходим новый понятийный аппарат и новые теоретические концепции, которые были бы адекватны этому динамизму» [Munch 1995: 159].
Отмеченный динамизм есть существенная характеристика ускорения социального времени глобальной современности, где «политическое время – это длительность существования, “жизни и смерти” государственных институтов и прочих социально-политических субъектов и продолжительность устойчивых состояний тех или иных отношений между ними» [Дегтярев 1998: 56]. В этом определении можно выделить «длительность существования и продолжительность отношений политических субъектов» путем устранения «устойчивых состояний», что, по сути, является синонимом понятия «отношения». Если исключить характеристику субъекта, то получится определение социального времени как «длительность субъектов и их отношений». Так как политика есть сфера властных отношений, то политическое время – это длительность действия властителей и властных отношений между ними.
Такое определение хорошо подходит для анализа формальной политической деятельности, где политический субъект (властитель) есть реальный человек – политик, находящейся в поле взаимоотношений с другими политиками, причем отношения их строятся по правилам этого поля, включая темпоральные. Но политик как человек взаимодействует в этом ключе с другими политиками в таком же качестве, и правила уже являются неформальными и не полностью осознанными. Оба плана анализа предстают как отношения темпоральностей политических деятелей в темпоральном поле формализованной политики, регулируемые формальными и неформальными (частью – неосознанными) темпоральными нормами. Именно эти нормы и правила образуют темпоральное поле формальной политики и предмет ее анализа.
Политическое действие осуществляется в политическом времени, которое представляет собой предмет хронополитики. «Итак, если хронополитика конструируется нами как определенный образ политического действия, выработанный в процессе рефлексии над политическим мышлением (хотя этим понятие хронополитики никак не исчерпывается), то и время в хронополитике конструируется нами как время политического действия. Отсюда естественно возникает необходимость рассмотрения политического действия как отдельной и особой категории хронополитики» [Пятигорский 2003].
Политическое действие всегда «беременно» временем – оно может быть обращено в прошлое, в настоящее или в будущее, но всегда направлено в будущее – не только как операция, но и как структурная единица политической деятельности, которая определяется как процесс, направленный на достижение цели. Политические ценности живут только тогда, «когда они реально вдохновляют людей и определяют их жизнь» [Демидова, Николаев 2016: 19]. Поэтому политик должен искать механизм актуализации этих ценностей, чтобы они не превратились в археологический материал.
Локализация политического капитала в политическом времени позволяет вскрыть временную структуру политической деятельности. Формирование политического капитала не является актом, имеющим только экономическую основу, но она позволяет измерять ценностные колебания как инфляционного, так и дефляционного характера.
В качестве понятия, репрезентирующего категорию времени в нашем подходе к исследованию форм человеческого капитала, выступает возраст. Возрастная система играет в обществе роль естественной системы измерения социального времени и индивидуального бытия человека. Система возрастных показателей как нельзя лучше подходит для анализа процесса воспроизводства человека в аспекте социального времени, а это необходимо для описания человеческого капитала. Возраст человека в таком аспекте представляет собой уровень темпоральной организации человеческого бытия, обозначая позицию индивида на многомерной шкале социального сравнения. Возраст показывает меру накопления ресурсного обеспечения (форм капитала) во временнóй перспективе с учетом ее отнесенности к прошлому, настоящему и будущему.
Первоначально мы выделяли 4 основных и 3 дополнительных системы возрастов – это социальный, культурный, психологический, биологический и экономический, педагогический, интеллектуальный возрасты [Ежов 2000: 396-400]. Такая модель, по нашему мнению, может стать основой комплексного описания жизненного пути в аспекте социального времени. Она, несомненно, будет обладать эвристическими возможностями при анализе позиций индивида, которые выступают факторами образования основных форм человеческого капитала в социальном пространстве в течение жизни.
В связи с особой значимостью сферы политики в жизни современного человека мы пришли к выводу, что в классификацию форм времени и капитала необходимо ввести политическое время и политический капитал в качестве самостоятельных форм, а не дополнительных к социальному, символическому и культурному капиталам. В эпоху глобализации политическая деятельность становится непременным ресурсом выживания человека и общества, а не только уделом избранных. Более того, за право реального политического участия идет борьба (что особенно важно сейчас для России). Поэтому для связи политического времени и политического капитала необходимо ввести понятие политического возраста. Данное понятие должно опосредовать связь политического времени и политического капитала и в то же время быть комплиментарным по отношению к другим возрастам.
Проведя поиск в Интернете, мы обнаружили, что политический возраст упоминается только лишь в календарном, хронологическом смысле и указывает на возраст политиков, на особенности политики по отношению к разным возрастным группам. Есть упоминания о «возрасте политики», «возрасте демократии», которые метафорически указывают на характеристики политического поля, но как научное понятие, выражающее возрастание некоторой способности (капи- тала) во времени, оно отсутствует. По нашему мнению, политический возраст целесообразно связать с процессом политической коммуникации. Если политическое поле уподобить рынку, то «отношения между спросом и предложением опосредуются здесь не только и не столько деньгами как обобщенным символическим средством коммуникации, сколько языком, влиянием и политической властью, благодаря чему социальные взаимодействия в данной сфере характеризуются своим особым, самостоятельным качеством, отличным от чисто денежного обмена». Так как деньги и власть являются внешними по отношению к возрастному развитию атрибутами, то политический возраст может быть опе-рационализирован в терминах языка и влияния. «Язык является обобщенным средством общения, с помощью которого в сфере действия этого средства можно добиться у субъекта, владеющего данным языком, соответствующего понимания и, возможно, согласия. Влияние является обобщенным средством ассоциирования, с помощью которого в сфере действия данного средства можно побудить обладающих кооперационными способностями субъектов к сотрудничеству и поддержке» [Munch 1995: 161].
Таким образом, в темпоральной структуре человеческого капитала политический капитал с необходимостью должен присутствовать и как составляющая социального, культурного, психологического капиталов, и как самостоятельная форма. В качестве опосредующего звена между политическим временем и политическим капиталом выступает политический возраст, который выражает способность к политической коммуникации и может быть репрезентирован как язык и влияние или конкретно – как языковая компетентность (по отношению к политическому дискурсу) и навыки убеждения и внушения.
Подводя итоги, отметим, что политическое время и политический возраст являются основными темпоральными коннотациями понятия политического капитала и они могут быть использованы при анализе его формы и операциона-лизации содержания.
Список литературы Темпоральные коннотации политического капитала
- Балабай С.В. 2016. Срезы времени как властные детерминанты общественного сознания. -Система ценностей современного общества. № 46. С. 105-109
- Бурдье П. 1993. Социология политики. М.: Socio-Logos. 336 с
- Бурдье П. 2007. Социальное пространство: поля и практики. М., СПб.: Алетейя. 576 с
- Дегтярев А.А. 1998. Основы политической теории. М.: Высшая школа. 239 с
- Демидова Е.И., Николаев А.Н. 2016. Социокультурные ценности как фактор российского политического процесса. -Власть. № 4. С. 14-20
- Ежов О. Н. 2000. Онтология социального времени. Саратов: Изд-во СГТУ. 480 с
- Ефимова Е.А. 2015. Модернизация общества в социокультурном пространстве России. -Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. № 7. С. 165-168
- Пятигорский А. 2003. Разделение знания, целесообразность, время и хронополитика (разработка вторая). -Школа Культурной Политики. Доступ: http://www.shkp.ru/lib/comm/s2003/6
- Munch R. 1995. Politische Macht als Medium der Kommunikation. -Dynamik der Kommunikationsgesellschaft Suhrkamp. Frankfurt am Main. S. 159-177