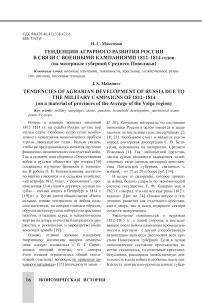Тенденции аграрного развития России в связи с военными кампаниями 1812-1814 годов (на материале губерний Среднего Поволжья)
Автор: Максимов Иван Семенович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Экономическое развитие России: региональный опыт
Статья в выпуске: 4 (15), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется влияние военных кампаний 1812-1814 гг. на экономическое развитие аграрного сектора экономики средневолжских губерний. На архивном материале показаны тенденции аграрного развития в период и после «грозы двенадцатого года».
Военные кампании, повинности, крестьяне, хозяйственное развитие, вотчина, посевные площади
Короткий адрес: https://sciup.org/14723601
IDR: 14723601 | УДК: 94(470.40.43):338.421.6
Текст научной статьи Тенденции аграрного развития России в связи с военными кампаниями 1812-1814 годов (на материале губерний Среднего Поволжья)
Вопрос о влиянии военных кампаний 1812–1814 гг. на судьбы России до сих пор изучен слабо. Особенно остро стоит необходимость осмысления экономических проблем «грозы двенадцатого года». Нельзя сказать, чтобы не предпринималось попыток изучения финансово-экономических последствий войн. Так, в седьмом томе сборника «Отечественная война и русское общество» три очерка [36] посвящены изучению финансов и экономики. В работе П. Н. Колокольникова достаточно внятно говорится и о сельском хозяйстве: «катастрофа 1812 года», «“революция”, произведенная 12-м годом в деревне», «сущая пагуба» – наплыв нищих в Петербург в 1814 г. [19] и т. д. Тут же дается общая оценка: «Всего сильнее, однако пострадало от войны сельское население, на которое главным образом, обрушились рекрутские наборы и возрастание налогов, и падение курса, и патриотические жертвы на алтарь отечества благородного дворянства, и реквизиции, и мародерство обеих воюющих армий» [19].
Однако, отдавая должное солидному творческому коллективу авторов семитомника, следует согласиться с В. Г. Сироткиным, который отмечал, что «авторы этого издания ограничились общей постановкой отдельных вопросов, не привлекая архивного материала » [35] (подчеркнуто нами. –
И. М. ). Кое-какие материалы по состоянию экономики России в целом имеются в защищенных за последние годы диссертациях [2; 18; 21]. Особняком стоит и является шагом вперед докторская диссертация С. В. Белоусова, основанная на материалах Среднего Поволжья [1]. Так, любопытной представляется сумма денежного выражения хозяйственных тягот разных категорий крестьянства Пензенской губернии, связанных с войной, – от 15 до 20 и более руб. [34].
В целом то разорение, которое принесла война, больно ударило по экономической системе государства. Е. Ф. Канкрин еще в 1823 г. говорил, что «не все еще раны 1812 г. зажили» [Цит. по: 34]. Однако вопрос о тенденциях развития как отдельного крестьянского двора, так и всего аграрного сектора остается неизученным.
Увеличение повинностей и неурожаи 1812–1815 гг., с одной стороны, и последовавшее после войны оживление промышленности и торговли – с другой способствовали активизации процесса расслоения всех крестьян Поволжских губерний. Если в целом экономическое состояние крестьянства заметно ухудшилось, то отдельные крестьяне, безусловно, расширили хозяйственную деятельность в ходе войны и особенно после нее. Близость центрально-промышленных губер- ний, наличие важных водных и сухопутных коммуникаций, события 1812–1815 гг. (формирование и передвижение в губерниях Поволжья войск и ополчений) способствовали выделению в крестьянской массе зажиточной верхушки.
Известен был оборотами экономический крестьянин Ефим Малышев из с. Подвязья Симбирской губернии. В 1812–1815 гг. он еще больше развернул хозяйство на поставках для армии и ополчений фуража и продовольствия. Но основу его предпринимательства составлял все же рыбный промысел. Вместе с сыновьями Иваном и Егором он заключил в 1815 г. договор на аренду рыбных ловель у графа В. Г. Орлова за 41 000 руб. ассигнациями в год [12].
Удельный крестьянин Степан Алексеев из д. Чамзинки Ардатовского уезда Симбирской губернии на речке Чернопейке арендовал «об одном поставе мельницу с толчеей с 1815 г. из оброка по 101 руб. в год» [30]. Помещичий крестьянин Пимен Недоносков из с. Брусяны арендовал с 1815 по 1819 г. у В. Г. Орлова рыбные ловли за 650 руб. [13].
Отдельные крестьяне в больших размерах арендовали казенные и помещичьи земли, нанимали работников. Так, крестьянин с. Старый Костычей Симбирской губернии Кирилл Анофриев арендовал с 1815 г. 26 десятин 100 сажен казенной земли. В Ардатовском уезде той же губернии удельный крестьянин Татаринов взял в аренду две мельницы [28]. Усольский крестьянин В. Г. Орлова Василий Бесчастнов вместе с симбирским мещанином Федором Ворониным «сняли с торгу содержать курень в с. Усолье печи калачи, пряники и содержать фрукты по силе контракта в четырехлетнее содержание с платежом оброка по пятьсот рублей в год» [11].
Некоторые крестьяне имели по несколько лошадей и получали немалые барыши от перевозок различных грузов: хлеба, рыбы, соли, больных солдат и арестантов, рекрутов и т. п. Крестьянин Быстров из Нижегородской губернии в 1816 г. получил из казначейства 707 руб. 8 коп. «за поставленные для пересыльных арестантов подводы». Крестья- нин Логинычев в том же году получил за это более 600 руб. [7].
Помещичий крестьянин из с. Рязани Симбирской губернии Ефим Борисов, судя по его прошению, имел 11 лошадей, нанимал работников, у него водились немалые деньги. Так, он был в состоянии ссудить деньгами крестьянина с. Лавы Гаврила Савенкова в размере 700 руб. [10]. В пензенских и других поволжских имениях Воронцовых формировалась зажиточная верхушка: владельцы иссинских маслобойных заводов, содержатели мельниц, крестьяне, имевшие возможность откупиться от рекрутчины. Например, крестьянин с. Иссы Суслин в 1819 г. внес в господскую кассу 2 000 руб. за то, что вместо его сына в рекруты был отдан дворовый Семен Давыдов. Крестьянин того же села Никифор Петров для освобождения сына от рекрутчины купил помещику целую семью [17].
И в довоенные годы существовала зажиточная верхушка среди крестьян поволжских губерний. В послевоенные годы в количественном отношении она вряд ли увеличилась, более того, видимо, даже несколько уменьшилась, так как аренда значительно подорожала, и поэтому она стала не по силам крестьянам чуть выше среднего достатка. Сохранившиеся документы и материалы в определенной мере подтверждают это предположение. Например, крестьянин д. Сыресева Алатырско-го уезда Василий Михайлов с 1811 по 1815 г. арендовал у казны три озера «из оброка по 48 руб. 20 коп. в год», а с 1816 г. в связи с подорожанием аренды отказался от нее. Удельный крестьянин Степан Александров, помещичий крестьянин Ефим Михайлов арендовали в 1811–1815 г. по р. Суре и озерам в Алатырском уезде рыбные ловли, а с 1816 г. отказались от этого [29]. Причиной отказа явилось почти двукратное повышение цены, и аренду взяли более состоятельные люди.
Большие трудности испытывала после войны и крестьянская промышленность: возросший произвол начальства и вотчинной администрации, увеличение повинностей и неблагоприятная экономическая конъюнкту- ра 1812–1815 гг. привели к тому, что многие крестьянские предприятия закрывались. Так, в 1810 г. в Саранском уезде Пензенской губернии было 25 мыловаренных заводов, а к 1819 г. их осталось лишь 4 [27].
С уверенностью можно говорить об увеличении беднейшей прослойки крестьянства, так как война и последовавшее вслед за ней увеличение размеров повинностей закономерно вели к обеднению большей части хозяйств. Цены на хлеб в 1812–1820 гг. в целом оставались на одном уровне, валовые сборы хлебов оставались по-существу неизменными [22], а земледелие продолжало оставаться основой крестьянского хозяйства средневолжских губерний. В архивах нет необходимых данных, позволяющих проследить состояние скотовода в изучаемый период, но и оно в условиях уже ощутимого малоземелья было ограничено в дальнейшем развитии. Поэтому в связи с ростом повинностей и при неизменности основных источников доходов закономерно увеличилось число неплатежеспособных и голодающих крестьян.
В 1820 г. из Пензенской губернии крестьяне Чибирляевского правления Воронцовых писали на имя управляющего: «В половину оказалось в наших селениях неплательщиков, а третья часть найдется и совсем голодная, с которых не придумаешь, как в будущий год доходы господские взыскивать» [Цит по: 17]. Голод в рассматриваемый период в изучаемых губерниях стал обычным явлением. Н. И. Тургенев писал в дневнике: «Тургенево было прежде пуп всей земли: во всем околотке славилось и господами, и богатством. Ныне до того дошли, что лошадей надобно давать» [37]. Многие крестьяне в послевоенный период так обеднели, что не только не обходились своим хлебом, а даже взятый взаймы из сельских магазинов не могли вернуть в срок [25].
Социально-экономические, географические условия послевоенного времени в поволжских губерниях объективно толкали крестьянское хозяйство в сторону развития промыслов и отходничества. Этому же способствовал и торгово-промышленный подъем, охвативший Россию после 1815 г.: увеличивавшие обороты промышленность, торговля и транспорт нуждались в притоке рабочей силы, источником которой становились отходники.
Некоторые крестьяне полностью порывали с землей, добывали себе средства для пропитания и уплаты повинностей отходничеством. Так, Матвей Худов из с. Русской Борковки Усольской вотчины В. Г. Орлова в прошении пишет: «Хлеб и съестные припасы для себя с семейством заимствую с базаров, промыслу другого отроду никакого не имею, как кроме получа плакатный паспорт на прокормление себя с платежом господского оброка и государственных повинностей у кого-либо пого-ится служить наняться». Далее он пишет, что «без всякого промыслу», может «прийти в самоважнейший упадок и разорение» и просит дать ему паспорт для отхода на работу [14].
Большинство же средневолжского крестьянства продолжало сочетать сельское хозяйство с отходничеством. В 1816 г. пензенский управляющий удельной конторой писал в Департамент уделов: «Здешние удельные крестьяне имеют во владении пашенных и сенокосных земель весьма недостаточно… но почти генерально их упражнение в хлебопашестве; для чего нанимая у людей другого сословия землю, главные выгоды имеют от оной, поддерживаясь впрочем, работами в зимнее время на казенном Синдоровском и ближайших частных винокуренных и чугуноплавильных заводах, а весною на судах на реке Мокше» [31].
В соседней Симбирской губернии отдельные крестьяне «нанимались в работники на одну зиму, получали до ста рублей», другие ездили на Яик за рыбой, икрой, скотом, торговали гусями, от продажи которых брали «рубль на рубль барыша». Многие симбирские крестьяне в лесистой местности «промышляли изделиями, то есть делали телеги, сани... оные промышляли извозом» [31]. Н. П. Грищенко, изучавший хозяйство удельных крестьян, считает, что в начале XIX в. отходничество среди крестьян Среднего Поволжья было незначительным и лишь в 10–20-х гг. XIX в. наблюдается его значительный рост [16].
Существенным становится отход и среди других категорий крестьянства. Много работников уходило на промыслы в Городецкой вотчине Паниных [4]. Более чем в два раза увеличился отход в Усольской вотчине В. Г. Орлова в 1816–1820 гг. по сравнению с 1811–1815 гг. [15]. Даже фрагментарные данные по Пензенской и Симбирской губерниям за 1819–1820 гг. говорят о том, что отходничество год от года росло [32].
Заработки отходников в целом по сравнению с довоенным временем оставались неизменными, а данные, приводимые Ф. Н. Родиным, говорят о том, что по бурлацкому промыслу они в отдельные годы были даже ниже довоенных [33]. В связи с этим отходник, «если он не был разбогатевшим промышленником или торговцем, влачил жалкое существование, увеличивая собой ряды неоплатных недоимщиков» [20].
Сохранившиеся документы позволяют говорить о значительном увеличении торговли в поволжских губерниях в 1816–1820 гг. Увеличивая вынужденную продажу хлеба и все больше занимаясь промыслами, крестьяне стали испытывать трудности со сбытом производимой ими продукции. В связи с этим расширяются старые и открываются новые торги и ярмарки.
В октябре 1816 г. помещик Нижегородской губернии генерал-лейтенант Н. М. Бороздин возбуждал ходатайство перед нижегородским губернатором об открытии в имении его жены в сельце Юрхине еженедельного (по средам) торга. В прошении он указывал, что «сельцо Юрхино положение свое имеет на правом берегу Волги при самых удобнейших местах» для привала и погрузки судов [6]. Тайная советница Металева в 1819 г. ходатайствовала о разрешении «устроить пристань и учредить ярмарку в с. Порецком Симбирской губернии» [6].
Расширялась торговля на уже существующих торгах и ярмарках. В 1820 г. увеличивался срок действия Саранской ярмарки до 26 августа «или далее по обстоятельствам» [24]. Макарьевская ярмарка в определенной степени являлась индикатором хозяйствен- ной жизни России. Источники говорят о многократном увеличении количества привозимых на ярмарку товаров и сумм полавоч-ного сбора в 1816–1820 гг. по сравнению с 1801–1815 гг. В 1820 г. здесь привоз товаров оценивался в 148,4 млн руб., что в три раза больше, чем в 1815 г.; в такой же примерно пропорции возросла и сумма полавочного сбора [5].
В 1811 г. число торговавших на ярмарке крестьян доходило до 230, но война сильно ударила по крестьянской торговле, и в 1812–1815 гг. их количество многократно уменьшилось – до 20–60 чел. Однако в послевоенный период крестьянская торговля здесь быстро оживилась. К 1821 г. число торгующих крестьян составило 557 чел. [8]. Торговали крестьяне хлебом, кожами, холстом, шерстью и т. п., т. е. продукцией крестьянского двора. Но отдельные крестьяне, чаще всего из вотчин Шереметьева и В. Г. Орлова, сумели в 1812–1815 гг. не только сохранить, но и умножить капиталы.
Определить количество продаваемых ими товаров нет возможности. Но лишь полавоч-ного сбора, например, крестьянин Алексей Агафонов из с. Липенкова Княгининского уезда уплатил 200 руб., лысковская крестьянка Анна Шушляева – 100 руб., Семен Коровин из с. Трутнева Семеновского уезда – 100 руб., Яков Ермолаев из д. Молотиловки Балахнинского уезда – 300 руб., Иван Китай-кин из Краснослободского уезда – 75 руб. [3].
Из книги полавочного сбора за ярмарку 1821 г. видно, что из 1 848 торговцев 557 были крестьянами. Из 176 870 руб. 70 коп. полавочного сбора 38 163 руб. (21,6 %) внесли торговавшие на ярмарке крестьяне. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что большинство крестьян вели торговлю малыми партиями и уплачивали 10–20 руб. полавочного сбора, отдельные же крестьяне платили по 300–400 руб и даже 1 200 руб. [3].
Документы ярмарочной конторы позволяют сделать следующий вывод: если события 1812–1815 гг. почти не отразились на оборотах Макарьевской ярмарки – они имели по- стоянную тенденцию к росту, то крестьянская торговля в дальнейший период сильно пострадала, лишь в 1819 г. она приблизилась к уровню 1811 г., а в 1821 г. число торговавших на рынке крестьян возрасло по сравнению с 1811 г. почти в 2,5 раза.
Одной из особенностей, определившей хозяйственное развитие в 1810–1820 гг., была та, что через регион проходили транспортные коммуникации. Перед войной, в ходе и после нее поток перевозимых по этим путям грузов и людей значительно увеличился. Здесь в 1812–1813 гг. формировались армейские резервы и ополчения, здесь же размещались тысячи военнопленных, а все это требовало много продовольствия и фуража. При всей тяжести военных повинностей имелись и определенные плюсы для крестьянского хозяйства: легче было сбыть хлеб, сено, солому и другую крестьянскую продукцию.
Анализ структуры посевных площадей Усольской вотчины за 1810–1819 гг. показывает, что в посевах увеличилась доля овса (с 16,2 до 28,6 %), полбы (с 4,3 до 11,4 %) и пшеницы. Значительно уменьшилось в процентном отношении количество ржи и проса [9]. Таким образом, события военного времени повлияли на специализацию крестьянского хозяйства Усольской вотчины, расположенной на большой трактовой дороге: увеличилось производство наиболее покупаемых войсковыми фуражами видов хлебов.
Итак, военные кампании 1812–1814 гг. и связанные с ними мероприятия обострили и активизировали процессы, протекавшие до этого в крестьянском хозяйстве средневолжских губерний. Усилился процесс социального расслоения различных категорий кре- стьян. Некоторым крестьянам удалось в ходе войны и после нее за счет различных подрядов и аренд увеличить капиталы. Поражают размерами капиталы этой прослойки, но в количественном отношении она, вероятнее всего, в первые послевоенные годы не выросла. Большинство крестьян в эти годы пополняли беднейшую прослойку.
Смена экономического упадка 1812– 1815 гг. оживлением вместе с другими факторами благоприятствовали в 1816–1820 гг. развитию отходничества, которое, как показывают изученные нами данные, год от года увеличивалось среди всех категорий крестьян.
Большую трансформацию в связи с войной претерпела крестьянская торговля. Лишь немногим крестьянам при неблагоприятных обстоятельствах 1812–1815 гг. удалось сохранить и увеличить торговые обороты. Часть торговавших крестьян свернули торговлю. Вновь она ожила и достигла довоенного уровня лишь к концу второго десятилетия XIX в..
Изученные нами ведомости о посевах и урожаях по Усольской вотчине В. Г. Орлова и другие источники говорят о влиянии военных событий на специализацию земледелия поволжских губерний. Следовательно, война и связанные с ней величайшие трудности предопределили существенные изменения в крестьянском подворье: в уровне его благосостояния и структуре производства. Усилилась связь крестьянской экономики с рынком. Благоприятны были в 1818–1820 гг. условия для крестьянской промышленности. В этой сфере тоже шел непрерывный процесс постепенного раскрестьянивания деревни. Военные кампании 1812–1815 гг. ускорили этот процесс.
Список литературы Тенденции аграрного развития России в связи с военными кампаниями 1812-1814 годов (на материале губерний Среднего Поволжья)
- Белоусов С. В. Провинциальное общество и Отечественная война 1812 года (на материалах Среднего Поволжья): автореф. дис. д-ра ист. наук/С. В. Белоусов. -2007. -40 с.
- Гаврилов С. В. Организация снабжения русской армии накануне и в ходе Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813-1815 гг.: исторические аспекты: дис.... канд. ист. наук./С. В. Гаврилов -СПб., 2003. -280 с.
- Государственный архив Нижегородской области (ГАНО). Д. 4553. -Л. 1-161 об.
- ГАНО. -Ф. 399. -Оп. 1. -Д. 211-а. -Л. 1 и об. -15; Д. 315. -Л. 45; Д. 370. -Л. 1 и об. -38.
- ГАНО. -Ф. 489. -Оп. 286. -Д. 251. -Л. 25 об -42об.; Д. 229. -Л. 23 и об. -33; Д. 220. -Л. 1 и об. -45 и об.
- ГАНО. -Ф. 5. -Оп. 42. -Д. 331. -Л. 2.
- ГАНО. -Ф. 60. -Оп. 232. -Д. 251-б. -Л. 11-17.
- ГАНО. -Д. 116. -Л. 1 и об. -56 об.; Д. 196. -Л. 1 и об. -101 и об.; Д. 220. -Л. 1 и об -45 и об.; Д. 229. -Л. 23 об. -33; Д. 251. -Л. 25 об. -42 об.; Д. 348. -Л. 1-83; Д. 452. -Л. 1-161 и об.
- Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). -Ф. 147. -Оп. 12. -Д. 11. -Л. 1-4; Оп. 17. -Д. 154. -Л. 9-12; Оп. 20. -Д. 133. -Л. 46 об. -48; Оп. 21. -Д. 34. -Л. 14-18 об.
- ГАУО. -Ф. 147. -Оп. 12. -Д. 223. -Л. 16-17.
- ГАУО. -Ф. 147. -Оп. 19. -Д. 197. -Л. 20 и об.
- ГАУО. -Ф. 147. -Оп. 20. -Д. 206. -Л. 43 об. -45.
- ГАУО. -Ф. 147. -Оп. 20. -Д. 206. -Л. 45.
- ГАУО. -Ф. 147. -Оп. 22. -Д. 13. -Л. 24 и об.
- ГАУО. -Ф. 47. -Оп. 17. -Д. 92. -Л. 1 об. -14 об.; Оп. 16. -Д. 142. -Л. 4-40; Оп. 20. -Д. 35. -Л. 50 об. -51.
- Гриценко Н. П. Удельные крестьяне Среднего Поволжья. Очерки/Н. П. Гриценко//Учен. записки Чечено-Ингуш. гос. пед. ин-та. Грозный, 1959. -Вып. 2. -С. 223.
- Индова Е. И. Крепостное хозяйство в начале XIX века (по материалам вотчинного архива Воронцовых)/Е. И. Индова. -М., 1955. -С. 48-49.
- Коваленко А. Ю. Военные реформы в России в первой четверти XIX в.: дис... д-ра ист. наук/А. Ю. Коваленко. -М., 2004. -339 с.
- Колокольников П. Н. Хозяйство России после войны 1812 г./П. Н. Колокольников//Отечественная война и русское общество. -СПб., 1912. -Т. 7. -С. 113-123.
- Крестьянское движение в России в 1796-1825 гг.: сб. док./под ред. С. Н. Волка. -М., 1961. -С. 13.
- Марней Л. Г. -Финансовая политика России в первой четверти XIX в.: дис... канд. ист. наук/Л. Г. Марней. -М., 1999. -189 с.
- Миронов Б. Н. Хлебные цены в России за два столетия (XVIII-XIX вв.)/Б. Н. Миронов; под ред. А. Г. Манькова. -Л., 1985. -Табл. 9.
- Рахматуллин М. А. Хлебный рынок и цены в России в первой половине XIX в./М. А. Рахматуллин//Проблемы генезиса капитализма. -М., 1970. -С. 405.
- Российский государственный исторический архив (РГИА). -Оп. 1. -Ч. 1. -Д. 1742. -Л. 1-2;
- Государственный архив Пензенской области (ГАПО). -Ф. 5. -Оп. 1. -Д. 650. -Л. 1-2.
- РГИА. -Ф. 1287. -Оп. 1. Ч. 1. -Д. 1309, 1378, 1443.
- РГИА. -Ф. 1287. -Оп. 5. -Д. 62. -Л. 1-29.
- РГИА. -Ф. 17. -Оп. 1. -Д. 45. -Л. 58; ГАПО. -Ф. 5. -Оп. 1. -Д. 782. -Л.
- РГИА. -Ф. 379. -Оп. 1. -Д. 128. -Л. 11, 16 об.
- РГИА. -Ф. 379. -Оп. 1. -Д. 128. -Л. 14 об. -15.
- РГИА. -Ф. 379. -Оп. 1. -Д. 128. -Л. 15 об.
- РГИА. -Ф. 515. -Оп. 22. -Д. 9. -Л. 70.
- РГИА. -Ф. 557. -Оп. 2. -Д. 269. -Л. 5 об., 64 об.; Д. 279. -Л. 73 об., 149 об.; Д. 281. -Л. 43 об., 93 об.
- Родин Ф. Н. Бурлачество в России. Историко-социологический очерк/Ф. Н. Родин. -М., 1975. С. 234.
- Сивков К. В. Финансы России после войны с Наполеоном/К. В. Сивков//Отечественная война и русское общество. -Т. VII. -СПб., 1912. -С. 124-136.
- Сироткин В. Г. Финансово-экономические последствия наполеоновских войн и Россия в 1814-1824 годы//История СССР. -1974. -№ 4. -С. 46.
- Туган-Барановский М. И. Война и промышленное развитие России/М. И. Туган-Барановский//Отечественная война и русское общество: в 7 т. -М., 1911-1912. -Т. 7. -С. 105-112.
- Тургенев Н. И. Дневник и письма за 1816-1824 годы/Н. И. Тургенев//Архив братьев Тургеневых. -Петроград, 1921. -Т. 3. -С. 141.