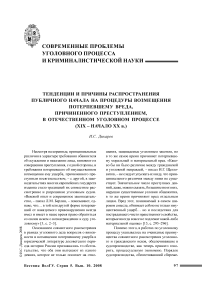Тенденции и причины распространения публичного начала на процедуры возмещения потерпевшему вреда, причиненного преступлением, в отечественном уголовном процессе (XIX - начало ХХ в.)
Автор: Дикарев Илья Степанович
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Современные проблемы уголовного процесса и криминалистической науки
Статья в выпуске: 10, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14972654
IDR: 14972654
Текст статьи Тенденции и причины распространения публичного начала на процедуры возмещения потерпевшему вреда, причиненного преступлением, в отечественном уголовном процессе (XIX - начало ХХ в.)
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ (XIX – НАЧАЛО XX в.)
И.С. Дикарев
Несмотря на коренные, принципиальные различия в характере требования обвинителя об осуждении и наказании лица, виновного в совершении преступления, с одной стороны, и требования потерпевшего об имущественном возмещении ему ущерба, причиненного преступным посягательством, – с другой, в законодательствах многих европейских государств издавна стало традицией их совместное рассмотрение и разрешение уголовным судом. «Вековой опыт и современное законодательство, – писал Л.М. Берлин, – показывают, однако, что… в той или другой форме потерпевший от наказуемого правонарушения всегда имел и имеет в наше время право обратиться со своим иском о вознаграждении к суду уголовному» [3, с. 2–3].
Основанием совместного рассмотрения в рамках уголовного дела вопросов о виновности и возмещении потерпевшему ущерба в юридической литературе досоветского периода истории России признавалось то обстоятельство, что оба они вытекают из одного деяния, которое не только посягает на отно- шения, защищаемые уголовным законом, но в то же самое время причиняет потерпевшему моральный и материальный вред. «Каково бы ни было различие между гражданской и уголовной неправдой, – писал И.Г. Щегло-витов, – не следует упускать из виду, что принципиального различия между ними не существует. Значительное число преступных деяний, даже, можно сказать, большинство из них, нарушая существенные условия общежития, в то же время причиняют вред отдельным лицам. Вред этот, понимаемый в самом широком смысле, обнимает собою не только имущественный ущерб… но и последствия для пострадавшего чисто нравственного свойства, которые иногда вовсе не подлежат какой-либо материальной оценке» [15, с. 295–296].
Помимо этого, в работах по уголовному процессу указывалось на очевидные преимущества совместного рассмотрения уголовного и гражданского исков, обеспечивавшие в судопроизводстве, как теперь принято говорить, процессуальную экономию. Порядок судопроизводства, обеспечивавший сбереже- ние сил, времени и средств, создавался законодателями европейских государств прежде всего в интересах потерпевшего – участника уголовного процесса, более других достойного сочувствия и участия. Французская система построения «соединенного» процесса, служившая наряду с германской в XIX столетии эталоном для законодателей других стран, основывалась на том, что потерпевший от преступления находится обыкновенно в положении более тяжком и невыгодном, чем потерпевший от гражданского правонарушения, а потому заставлять его выносить на своих плечах последовательно и отдельно сначала уголовный, потом гражданский процессы значило бы еще более затруднить ему защиту перед судом своих прав и интересов (см.: [11, с. 75]). Руководствуясь такими взглядами, законодатели европейских государств существенно упрощали процедуру заявления и поддержания иска потерпевшим: иск, как правило, не облагался никакими пошлинами, доказывание оснований иска осуществлялось ex officio обвинительной властью и т. д.
Публичные интересы в уголовном судопроизводстве традиционно связывались прежде всего с обнаружением преступления, изобличением преступника и его наказанием. На ранних этапах развития публичного уголовного процесса законодатель не видел в защите имущественных прав лица, пострадавшего от преступления, никакой пользы обществу и государству, в связи с чем гражданский истец сам должен был заботиться о предъявлении гражданского иска и его обосновании перед судом. Поэтому допущение гражданского иска в уголовном суде первоначально явилось своеобразной уступкой частным лицам, пострадавшим от преступления.
Со временем законодатели европейских стран осознали выгоды, которые приносит государству совместное рассмотрение гражданского и уголовного исков: сокращение числа судебных разбирательств влечет очевидное сокращение расходов казны на судебную деятельность.
Право на вознаграждение за причиненный вред, хотя и являлось производным от события преступления, традиционно рассматривалось, как частное право потерпевшего. Вся организация процессуальной деятельно- сти, связанной с заявлением, рассмотрением и разрешением гражданского иска в рамках уголовного дела, указывала на то, что эта процедура была перенесена в уголовный процесс из гражданского практически в неизменном виде. Два порядка судопроизводства – гражданское и уголовное – были, если можно так выразиться, «механически» соединены вместе, что дало основание называть уголовный процесс, допускающий заявление потерпевшим требования о вознаграждении за причиненный преступлением ущерб, «соединенным» (Adhüsionsprocess).
В свое время переход к инквизиционной модели уголовного процесса привел к тому, что важнейшим свойством производства по делам уголовным стало его подчинение публичному началу. В своей книге «Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству» Я.И. Баршев отмечал, что гражданское судопроизводство отличается от уголовного, помимо прочего, по главным началам : гражданское судопроизводство допускает действие и влияние на его область частного произвола , от чего в нем имеет совершенно другое свойство и вид деятельность судей и тяжущихся и тех средств, которые употребляются для открытия истины, нежели в уголовном судопроизводстве, которое, имея в виду только то, чтобы открыть настоящую истину в деле, совершенно исключает действие в нем частного произвола (см.: [2, с. 34]). Это различие было полностью распространено на «соединенный» процесс, вследствие чего исследователями единодушно признавалось, что и гражданский иск несмотря на свою совместность с уголовным преследованием сохраняет свой гражданский тип и свои процессуальные особенности, насколько они могут быть терпимы в процессе уголовном (см.: [12, с. 171]). «Подчинение гражданского иска судьбе уголовного дела, – писал И.Я. Фойниц-кий, – не лишает, однако, иск этот по содержанию полной самостоятельности» [11, с. 80].
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в середине XIX в. некоторые ученые объясняли отличия процессуального положения гражданского истца от статуса публичного обвинителя распространением на производство по гражданскому иску состязатель- ного начала (см.: [12, с. 186]). Наблюдаемое здесь смешение понятий состязательности и частного начала было вызвано, на наш взгляд, недостаточной теоретической разработанностью вопроса о принципах уголовного процесса. Позднее (в начале XX столетия) общепринятым становится мнение о том, что сфера производства по гражданскому иску подчинена частному началу (диспозитивности), поскольку «воля сторон признается здесь верховным законом» (см.: [11, с. 80]). Такой взгляд преобладает в уголовно-процессуальной теории до настоящего времени. Д.Г. Тальберг писал, что право потерпевшего заявить требование о возмещении за счет виновного имущественного вреда, причиненного преступлением, есть право чисто частное. Иск о вознаграждении, будучи основан на частном праве, подчиняется общим для всякого гражданского иска правилам (см.: [9, с. 4–5]).
Указанными причинами объясняется применение к процедуре производства по гражданскому иску в уголовном процессе основных начал гражданского процесса. В случаях заявления гражданского иска, по словам К.Я. Чихачева, уголовный суд обязан был руководствоваться началами права гражданского, придерживаться до известной степени правил гражданского судопроизводства. Другими словами, суд уголовный в подобных случаях выполнял функции суда гражданского (см.: [13, с. 118]). Кроме того, при разрешении гражданского иска в уголовном процессе не могли игнорироваться и требования материальных законов, хотя определенные исключения, вытекающие из производства дела в суде уголовном, были неизбежны 1.
В связи с этим право свободного распоряжения субъектом своими гражданскими правами, характерное для гражданского судопроизводства, признавалось в полной мере за гражданским истцом и в уголовном процессе. Соответственно и характерное для гражданского процесса положение о том, что никто не может принуждаться к пользованию своим гражданским правом или против воли его охранять (см.: [7, с. 15]), стало руководящим началом при законодательной регламентации института гражданского иска в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года. За исходное было принято правило, согласно ко- торому суд без инициативы гражданского истца не может приступить к рассмотрению вопроса о причиненных преступлением убытках (см.: [12, с. 186]).
Инициатива потерпевшего была обязательным условием и для принятия мер, направленных на обеспечение возможного в будущем возмещения. Ст. 305 Устава уголовного судопроизводства предусматривала, что принесший жалобу может просить о принятии мер к обеспечению отыскиваемого им вознаграждения. Причем судебный следователь был вправе входить в суд с представлением о принятии таких мер лишь в том случае, когда признавал просьбу истца основательной.
Вместе с тем производство по гражданскому иску не могло, оказавшись в рамках «соединенного» процесса, не испытывать на себе влияние исходных, руководящих начал уголовного судопроизводства. Оба процесса, писал С.В. Познышев, – гражданский и уголовный – сливались в одно процессуальное целое (см.: [7, с. 205]). Как следствие, элементы публичности проникали в производство по гражданскому иску, изменяя процессуальный статус гражданского истца, следователя и прокурора, процедуру заявления, рассмотрения и разрешения гражданского иска. Параллельно развивались публично-правовые процедуры, назначением которых было решение тех же задач, что стояли перед институтом гражданского иска в уголовном процессе (реституция).
Подчинение гражданского иска исходным началам уголовного процесса рассматривалось как необходимое условие правильного разрешения вопроса о вознаграждении потерпевшего за причиненный ему ущерб и согласованности данного решения с приговором уголовного суда. Отсутствие в гражданском процессе свойственных уголовному судопроизводству гарантий установления истины могло стать причиной тому, что раздельное рассмотрение уголовного и гражданского исков, вытекающих из одного деяния, привело бы суды к различным результатам, противоречивым решениям. Л.М. Берлин писал, что предоставлять суду гражданскому разрешение иска об убытках, вытекающих из наказуемого правонарушения, нельзя, так как это привело бы к неразрешимому затруднению. Требуя в деле материальной правды, суд этот стал бы в противоречие с основными началами своего производства, а если бы он пожелал ограничиться одной формальной правдой, то решение его противоречило бы общественному правосознанию, которое не допускает вменения в вину наказуемого правонарушения на основании неубедительной для общества формальной правды. Единственный выход из такого положения Л.М. Берлин видел в предоставлении решения вопроса о вознаграждении убытков, причиненных преступлением, суду уголовному, который обязан основывать свое решение на материальной правде (см.: [3, с. 16–17]).
На процессе эволюции норм уголовнопроцессуального права, регулирующих производство по гражданскому иску, существенно сказалось то обстоятельство, что представления наших соотечественников, живших на рубеже XIX и XX столетий, о приемлемости тех или иных способов защиты нарушенных прав сильно отличались от современных. В частности, требовать денег во искупление нанесенной обиды считалось делом недостойным. Такие же взгляды разделялись и дореволюционными российскими юристами, происходившими, как правило, из дворянского сословия. Для российского дворянина было естественно отреагировать на оскорбление вызовом «к барьеру», но не требованием о выплате денежной компенсации – подобный образ действий и мышления считался допустимым лишь для «подлого» сословия; требование же со стороны дворянина о выплате денег за нанесенное ему оскорбление навсегда закрывало для него двери в приличное общество (см.: [16, с. 78–79]). Подобные взгляды проникали в юридическую науку, укоренялись там, определяя направление развития законодательства. Например, Г.Ф. Шершеневич писал: «Нужно проникнуться глубоким презрением к личности человека, чтобы внушать ему, что деньги способны дать удовлетворение всяким нравственным страданиям. Переложение материального вреда на деньги есть результат буржуазного духа, который оценивает все на деньги, который считает все продажным» [14, с. 683].
В связи с вышесказанным может вызвать удивление то обстоятельство, что на практике активность потерпевших в заявле- нии требований о вознаграждении (в том числе за причиненные преступлением нравственные страдания) была достаточно высокой, и тенденций снижения подобной активности не наблюдалось. Этот парадокс объясняется тем, что для потерпевших заявление гражданского иска было зачастую единственной возможностью получить доступ в уголовное судопроизводство и участвовать в изобличении виновного. По общему правилу, обличение обвиняемых перед судом возлагалось на прокуроров и их товарищей. Потерпевшие от преступления частные лица выступали в качестве обвинителей только по делам, подведомственным мировым судебным установлениям (ст. 3–5 Устава уголовного судопроизводства). Однако согласно ст. 6 Устава уголовного судопроизводства лицо, потерпевшее от преступления или проступка, но не пользующееся правами частного обвинителя, в случае заявления иска о вознаграждении во время производства уголовного дела признавалось участвующим в деле гражданским истцом. Образ мыслей современников Судебных уставов 1864 г. прекрасно передал в своей речи по делу Назарова выдающийся адвокат С.А. Андреевский: «Часто в громких процессах последнего времени общество, то есть и специалисты, и публика, смотрели на гражданского истца как на сфинкса. Все задавались вопросами: что, ему в самом деле нужны деньги? Неужели при этой трагической обстановке в нем еще говорит корысть? Потребует ли он чего-нибудь и сколько потребует или благородно отречется? В большинстве случаев после выхода присяжных маска снималась; гражданский истец или совсем к этой минуте исчезал из суда, или отказывался от вознаграждения. Мы все это вправе назвать обходом закона…» [1, с. 96]. Таким образом, ограничение прав потерпевших на участие в уголовном преследовании стимулировало более активное использование частно-правовых средств защиты ими собственных интересов, что если и не способствовало само по себе развитию института гражданского иска в уголовном процессе, то во всяком случае делало его весьма востребованным.
Надо отметить, что буквальный смысл положений Устава уголовного судопроизводства, регулирующих участие гражданского истца в доказывании, на первый взгляд, не только не создавал предпосылок для столь широкого участия данного субъекта в рассмотрении уголовных дел судом присяжных, но даже препятствовал этому. Так, в ст. 743 Устава уголовного судопроизводства было закреплено: «В делах, рассматриваемых с участием присяжных заседателей, гражданский истец объяснения свои о причиненных ему убытках и доказательства, на которых основано требование его о вознаграждении, представляет по постановлении присяжными решения». В полном соответствии с содержанием приведенной нормы были сформулированы и разъяснения в объяснительной записке к Уставу (1865 г.): гражданский иск не подлежит рассмотрению присяжных заседателей, почему в делах, рассматриваемых с их участием, гражданский истец объяснения свои об убытках и доказательства, на которых основано требование его о вознаграждении, должен представлять по постановлении присяжными решения. В связи с этим возникает вопрос, как при таком толковании закона могла сложиться практика участия в судебном разбирательстве и выступления в прениях перед присяжными заседателями гражданских истцов как субсидиарных обвинителей?
Здесь мы сталкиваемся с примером того, как разработанные теорией уголовного судопроизводства положения, воплотившись в жизнь через решения Правительствующего Сената, фактически изменили смысл нормы Устава. И.Я. Фойницкий указывал на необходимость принять во внимание то, что хотя присяжные не решают гражданского иска, но вердиктом своим оказывают на решение его огромное влияние, устанавливая событие преступления и участие в нем подсудимого; отказ гражданскому истцу в представлении присяжным имеющихся у него данных и соображений было бы поэтому существенным лишением его права судебной защиты представляемых им интересов. В связи с этим и Сенат признавал за гражданским истцом право на речь как до провозглашения присяжными их вердикта, так и после того, понимая ст. 743 в том смысле, что исключительно коронному суду после вердикта представляются доводы о размере убытков и доказательства тому (см.: [11, с. 83]).
Проблемы, связанные с участием потерпевшего в уголовном судопроизводстве, не могли не привлечь внимание комиссии, работавшей над подготовкой нового устава уголовного судопроизводства. Положение, при котором потерпевший играл в процессе роль простого свидетеля, а для активного участия в доказывании был вынужден заявлять гражданский иск (часто без намерения получить вознаграждение), было признано ненормальным. В связи с этим в новом уставе предлагалось закрепить следующий порядок: признав лицо потерпевшим, суд получал право допустить это лицо, по его о том ходатайству, к участию в судебном заседании на правах стороны.
Выше уже отмечалось, что совместное рассмотрение уголовного и гражданского исков соответствовало как личным интересам потерпевшего от преступления лица, так и интересам публичным, государственным. Вместе с тем надо отдавать себе отчет в том, что интерес государства, сводившийся к простому обеспечению потерпевшему возможности добиваться в рамках уголовного процесса возмещения вреда, причиненного преступлением, не мог сам по себе стать основанием для глубокого проникновения публичного начала в процедуры, обеспечивающие защиту имущественных интересов потерпевших . «Соединенный» процесс обеспечивал лишь потенциальную возможность взыскания с виновного сумм в возмещение причиненного преступлением ущерба, и потерпевшие, как видно из вышесказанного, используя предъявление иска как «ключ», открывающий им доступ на судебную трибуну, возмещения зачастую не принимали.
А вместе с тем история отечественного уголовного судопроизводства свидетельствует о возраставшем с течением времени влиянии принципа публичности на процессуальный порядок восстановления имущественных прав потерпевших. Все указывает на то, что законодатель стремился построить соответствующие процедуры таким образом, чтобы обеспечить неотвратимость ответственности не только уголовной, но и материальной. Такая цель могла быть достигнута только при условии отказа от необходимости учета волеизъявления потерпевшего в вопросах возмещения причиненного ему преступлением ущерба. Апогеем развития российского уголовно-процессуального законодательства в этом направлении стало появление в нем уже в советский период положения о том, что, если гражданский иск остался непредъявленным, суд при постановлении приговора вправе по собственной инициативе разрешить вопрос о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением (ч. 4 ст. 29 УПК РСФСР). Что же дало толчок распространению публичного начала на процедуры, традиционно подчинявшиеся принципу диспозитивности? Полагаем, что направление развитию уголовнопроцессуального законодательства в вопросах регламентации процедур имущественного возмещения вреда было задано возобладавшим во второй половине XIX в. среди юристов мнением о том, что для государства привлечение виновных в совершении преступления к материальной ответственности является одним из важнейших превентивных средств борьбы с преступностью.
В 1885 г. в Риме состоялся международный тюремный конгресс, во время которого был проведен международный антропологический съезд криминалистов. Помимо прочего, этот съезд принял единогласно следующую резолюцию: съезд, убежденный в необходимости обеспечить гражданское вознаграждение не только в интересе потерпевших от преступления, но и в качестве одного из средств карательной и предупредительной обороны общества против преступления, выражает желание, чтобы положительные законодательства создали более действительные, направленные против преступников, их соучастников и укрывателей, способы к практическому осуществлению гражданского вознаграждения во всех уголовных судах, признавая достижение этой цели общественной обязанностью, вверенной прокурорскому надзору во время суда, судье – при постановлении приговора.
Через десять лет (1895 г.) международным тюремным конгрессом в Париже было признано, что прокурорский надзор должен иметь право по уголовным делам средней и высшей важности поддерживать перед судом предъявленное требование потерпевшего о вознаграждении (см.: [8, с. 127–128]).
Все эти идеи в полной мере разделялись отечественными процессуалистами. Уже в 1910 г. М.В. Духовской писал о диспозитивном порядке заявления гражданского иска в уголовном процессе как о недостатке Устава уголовного судопроизводства: «…потерпевше-му материальный вред судебные уставы мало помогают, так как представители государства являются на помощь лишь по просьбе его. Он, как и в гражданском процессе, должен сам заботиться о предъявлении иска, о защите его. Без ходатайства потерпевшего орган, производящий следствие, не обязан заботиться и об обеспечении причиненного вреда». При этом автором в качестве примера приводилось австрийское уголовно-процессуальное законодательство того времени, возлагавшее на следователя обязанность ex officio принимать меры к выяснению размера причиненного преступлением вреда, а на прокурора – обязанность поддержания гражданского иска (см.: [5, с. 179]). В полном соответствии с новыми взглядами готовился проект нового российского устава уголовного судопроизводства, в котором, в частности, на суд и следователя возлагалась обязанность по собственной инициативе принимать меры к обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением потерпевшему, без заявления последним о том ходатайства. Следователь должен был выполнять эту обязанность, если видел, что потерпевший лишен возможности сам своевременно заявить о причиненном ему вреде. В суде забота об интересах потерпевшего возлагалась на прокурора. Высоко оценивая приведенные положения, М.В. Духовской указывал, что потерпевший несет ущерб по большей части не по своей вине; нередко он коренится в условиях общественной жизни, а потому государство должно ему помогать (см.: [там же, с. 179–180]). Как видно, в качестве основания публичной защиты имущественных интересов потерпевшего здесь выступала уже не выгода государства, а ответственность власти перед личностью, пострадавшей в результате преступления .
Как известно, новый устав уголовного судопроизводства так и не был принят. Лежащая в основе регламентации вопросов возмещения потерпевшему причиненного преступлением ущерба концепция оставалась неиз- менной до 1917 года. Поэтому случаи осуществления частного права в особом публичном порядке рассматривались в юридической литературе досоветского периода как исключения, являющиеся лишь ограничением господствующего в частном праве диспозитивного начала (см.: [6, с. 129]). Одним из таких исключений стало закрепление в Уставе уголовного судопроизводства обязанности суда возвращать потерпевшему ex officio добытые преступным путем вещи без заявления о том особого требования. Нормами, непосредственно регулировавшими реституцию, были ст. 126, 776 и 777 Устава уголовного судопроизводства.
Согласно ст. 776 Устава уголовного судопроизводства вещи, добытые через преступное деяние, возвращались их хозяину, хотя бы он и не предъявлял никакого иска. При этом вещественные доказательства, имевшие существенное в деле значение, возвращались не ранее вступления вынесенного по делу приговора в законную силу.
Подобное ограничение частного начала в сфере защиты имущественных интересов потерпевшего объяснялось тем, что добытая преступным деянием вещь находилась в распоряжении суда в числе вещественных доказательств, и было бы, по словам А.Ф. Кистя-ковского, в высокой степени оскорбительным для правосудия, если бы уголовный суд эту вещь возвратил признанному виновным в воровстве только потому, что собственник не просил о возврате (цит. по: [10, с. 62–63]).
Реституция рассматривалась как институт публичного права, имеющий своей целью защиту общественных интересов. Этим и оправдывалось отступление от частного начала с возложением на суд обязанности ex officio возмещать в натуре причиненный преступлением вред. «Основанием для подобных распоряжений, – отмечал К.Я. Чихачев, – служит не право гражданское и не гражданский иск, а прямое предписание закона во имя охраны общественного интереса, во имя безопасности имущества граждан в государстве» [13, с. 119–120]. При подготовке проекта нового устава уголовного судопроизводста Высочайше утвержденная Комиссия для пересмотра законоположений по судебной части также исходила из того, что в интересах го- сударства необходимо не только наказать виновника преступного деяния, но и позаботиться о вознаграждении потерпевшего, и что для государства весьма важно, чтобы преступник не пользовался плодами уголовно наказуемого посягательства (см.: [8, с. 134–135]).
Следует отметить, что в досоветский период в уголовном процессе были обозначены строгие границы применения реституции, что позволяло «развести» реституцию и гражданский иск как две самостоятельные процессуальные формы, обеспечивающие возмещение потерпевшим причиненного преступлением ущерба.
В порядке реституции допускалось возвращение вещей только in corpore . Поэтому если добытые преступлением вещи не были найдены или не находились в распоряжении суда, то последний не мог без особого о том иска со стороны потерпевшего постановить о возмещении их стоимости хозяину. Деньги и денежные знаки могли признаваться вещами, добытыми преступлением, но возвращались в качестве таковых судом ex officio лишь в том случае, когда было доказано их тождество с присвоенными через преступление (см.: [11, с. 76]).
Что же касалось возвращения денежных средств, вырученных преступником от продажи вещей, добытых преступным путем, то вокруг этого вопроса в процессуальной литературе начала XX столетия развернулись острые дискуссии. Данный вопрос имеет существенное значение для выяснения соотношения публичных и диспозитивных начал в сфере уголовно-процессуальной деятельности, связанной с возмещением потерпевшему причиненного преступлением вреда. В частности, обозначение пределов применения реституции, как публично-правового института, позволяет составить представление о распространении принципа публичности и ограничениях диспозитивности в уголовном процессе.
Правительствующий Сенат стоял на позициях ограничения публичного начала в вопросах возмещения вреда, причиненного преступлением. В одном из своих решений он указал, что без предъявления гражданского иска всякие ценности, хотя бы составлявшие выручку от продажи или обмена похищенных вещей, не должны быть возвращаемы потер- певшему; за последним может быть оставлено лишь право требовать возмещения убытков в гражданском порядке. Данная позиция получила неоднозначные оценки в юридической литературе. В частности, подверг критике позицию Сената А. Бутовский, который, ссылаясь на практические сложности взыскания потерпевшим причиненного ему вреда в порядке гражданского судопроизводства, писал: «ведь нельзя же надеяться на простодушие и наивность того преступника, который, получив на руки вырученные им от продажи краденых вещей деньги, постарается сберечь их для вознаграждения потерпевшего». Кроме того, тем же автором было отмечено, что обогащение преступника при посредстве суда ценностями, добытыми им путем преступления, является незаконным и с точки зрения гражданского права и не может быть терпимо в целях ограждения общественного порядка. В связи с этим предлагалось термин «вещи, добытые путем преступного деяния» понимать в более широком смысле, обнимая им не только те предметы, которые служили непосредственным объектом преступного деяния, но и те ценности, которые добыты преступником путем сбыта похищенных вещей и обмена их на другие ценности» [4, с. 191–192]. И.М. Тют-рюмов считал возможным возвращение судом ex officio вещей, приобретенных на деньги, вырученные от продажи похищенного (или приобретенного иным преступным путем) имущества (см.: [10, с. 167]).
Вместе с тем обязанность суда возвратить потерпевшему вещи, которых тот лишился в результате преступного посягательства, не предполагала разрешение в рамках уголовного судопроизводства споров о принадлежности имущества. Поэтому если к вещам, добытым через преступление или проступок, какое-либо третье лицо предъявляло притязание, суд предоставлял спорящим разобраться в своих правах в порядке гражданского судопроизводства (ст. 777 Устава уголовного судопроизводства).
Ограничивая предмет реституции, законодатель стремился к тому, чтобы публичноправовая форма, какой является реституция, не вытеснила и не подменила бы собой гражданский иск, то есть чтобы реституция не ис- пользовалась для присуждения потерпевшему того имущества, которое он мог получить, только заявив гражданский иск. В то же время возможность заявления иска о возвращении вещей in corpore вовсе не исключалась (см.: [9, с. 8]).
Подводя итог, можно сформулировать следующие общие выводы. Включение в уголовный процесс процедур, обеспечивающих возмещение потерпевшему причиненного преступлением ущерба, изначально было направлено на защиту исключительно частных интересов. Со временем осознание законодателем того, что изъятие у преступника всего имущества, полученного им преступным путем, является одним из средств борьбы с преступностью, дало импульс развитию основанных на публичном начале процессуальных форм решения этой задачи. Однако уже в период работы Высочайше утвержденной Комиссии для пересмотра законоположений по судебной части обозначилось стремление авторов проекта нового устава уголовного судопроизводства урегулировать вопросы, связанные с имущественной ответственностью виновных в преступлении лиц, таким образом, чтобы обеспечить баланс публичных и личных интересов. Но эволюционное развитие уголовно-процессуального законодательства было прервано в 1917 году. Начиналась эпоха советского уголовного процесса, в основе организации которого лежали уже совершенно иные принципы.
Список литературы Тенденции и причины распространения публичного начала на процедуры возмещения потерпевшему вреда, причиненного преступлением, в отечественном уголовном процессе (XIX - начало ХХ в.)
- Тенденции и причины распространения публичного начала на процедуры возмещения потерпевшему вреда, причиненного преступлением, в отечественном уголовном процессе (XIX -начало ХХ в.)
- Андреевский, С. А. Избранные труды и речи/С. А. Андреевский; сост. И. В. Потапчук. -Тула: Автограф, 2000. -424 с.
- Баршев, Я. И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству/Я. И. Баршев. -М.: ЛэксЭст, 2001. -240 с.
- Берлин, Л. М. Гражданский иск потерпевшего от наказуемого правонарушения. К вопросу о подсудности этого иска/Л. М. Берлин. -СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1888. -241 с.
- Бутовский, А. О вещах, добытых путем преступления/А. Бутовский//Журнал Министерства юстиции. -1901. -№ 8. -С. 190-193.
- Духовской, М. В. Русский уголовный процесс/М. В. Духовской. -М.: Тип. А. П. Поплавского, 1910. -448 с.
- Люблинский, П. И. Новая теория уголовного процесса/П. И. Люблинский//Журнал Министерства юстиции. -1916. -№ 1. -С. 104-145.
- Познышев, С. В. Элементарный учебник русского уголовного процесса/С. В. Познышев. -М.: Изд. Г. А. Лемана и Б. Д. Плетнева, 1913. -328 с.
- Скобельцын, А. Потерпевшее от преступления лицо в уголовном процессе по Проекту Высочайше утвержденной Комиссии для пересмотра законоположений по судебной части изд. 1900 г./А. Скобельцын//Вестник права. -1902. -№ 1. -С. 127-136.
- Тальберг, Д. Г. Гражданский иск в уголовном суде или соединенный процесс/Д. Г. Тальберг. -Киев: Унив. тип., 1888. -212 с.
- Тютрюмов, И. М. О возмещении судом ex officio вреда и убытков, причиненных преступлением, и о возвращении вещей, добытых преступным деянием/И. М. Тютрюмов//Журнал Министерства юстиции. -1896. -№ 8. -С. 61-76.
- Фойницкий, И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. II/И. Я. Фойницкий. -СПб.: Альфа, 1996. -606 с.
- Чебышев-Дмитриев, А. Опыты по уголовному праву и судопроизводству. IV: Иск о вознаграждении за вред и убытки, причиненные преступлением/А. Чебышев-Дмитриев//Журнал Министерства юстиции. -1867. -Т. XXXIV. -С. 169-214.
- Чихачев, К. Я. Распоряжения судебного следователя и суда относительно вещей, добытых через преступление/К. Я. Чихачев//Журнал Министерства юстиции. -1900. -№ 1. -С. 114-139.
- Шершеневич, Г. Ф. Общая теория права. Вып. 3/Г. Ф. Шершеневич. -М.: Тип. Товарищества И. Д. Сыкина, 1912.
- Щегловитов, И. Уголовно-частный порядок преследования по Судебным уставам. Вторая заметка/И. Щегловитов//Юридический вестник. -1890. -№ 7. -С. 294-308.
- Эрделевский, А. М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной практики/А. М. Эрделевский. -М.:БЕК, 2000. -236 с.