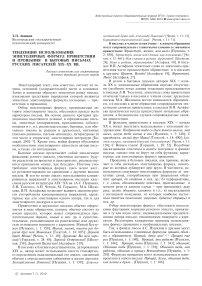Тенденции использования эпистолярных формул приветствия и прощания в бытовых письмах русских писателей XIX-XX веков
Автор: Акимова Татьяна Петровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Русская словесность как сокровищница духовных традиций русского народа
Статья в выпуске: 1 (6), 2010 года.
Бесплатный доступ
Выявляются закономерности отбора формул приветствия и прощания в письмах, связанные с нормами эпистолярного этикета, индивидуальными предпочтениями автора, характером его отношений с адресатом; проводится описании эволюции этих закономерностей.
Эпистолярный стиль, этикетные формулы, нормы речевого этикета, общение, интенции письма
Короткий адрес: https://sciup.org/14821503
IDR: 14821503
Текст научной статьи Тенденции использования эпистолярных формул приветствия и прощания в бытовых письмах русских писателей XIX-XX веков
Эпистолярный текст, как известно, состоит из зачина, основной (содержательной) части и концовки. Зачин и концовка образуют этикетную рамку письма, языковыми средствами выражения которой являются этикетные эпистолярные формулы (основные — приветствия и прощания).
Отбор эпистолярных формул, производимый автором эпистолярного текста, обусловлен прежде всего характером письма. На. основе данного критерия традиционно выделяются деловые и официальные письма, этикетные (поздравления, приглашения, соболезнования и т. п.), рекомендательные, бытовые, или обиходные письма (к родным и дружеские), интимные (письма-дневники, письма-исповеди), литературные (в том числе и открытки), эпистолярная литература. [Балакай, 2002: 7]. Кроме того, выбор формул обусловлен особенностями эпистолярного идиостиля автора письма, а также его интенциями.
Бытовое письмо представляет собой письменную фиксацию устного диалога, участники которого, будучи разделены во времени и пространстве, руководствуются принципом «пишу, как беседую». Поэтому употребление эпистолярных формул здесь менее жестко регламентировано по сравнению с другими видами письма. И тем не менее анализ использования клишированных выражений в эпистолярном наследии классиков русской литературы XIX-XX вв. (А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М. Горького, М.А. Шолохова, В.П. Астафьева) позволяет выявить закономерности употребления клишированных выражений, характерные как для эпистолярия одного автора, так и для эпистолярного дискурса в целом.
Приветствие в дружеских письмах обычно оформляется в виде обращения, которое обычно состоит из имени адресата, которое может сопровождаться прилагательными дорогой, милый и нек. др. и существительными, указывающими на. родственные или дружеские отношения пишущего с адресатом: Милый Бестужев [Пушкин, т. 1: 159]; Милый, милый, тысячу раз дорогой друг мой Машенька [Толстой, т. 18: 605]; Дорогой брат Миша! [Чехов, т. 11: 10]; Дружище Вы мой хороший! [Горький, т. 28: 48]; Дорогой Островский! [Шолохов: 258]; Дорогой Валентин! [Астафьев: 219].
В письмах к близким родственникам, датированных XIX в., автор может использовать вместо стандартного определения окказиональный его аналог, связанный обычно с определенными событиями в жизни адресата: Благоразумный Левинька! [Пушкин, т. 1: 139]; Доброка- чественный брат мой, Александр Павлович! [Чехов, т. 11: 13], Карантинно-таможенный Саша! [Чехов, т. 11: 71].
В письмах к членам семьи (чаще – к женам) обращения могут сопровождаться с этикетными словами со значением приветствия: Здравствуй, женка, мой ангел [Пушкин, т. 2: 658], Здравствуй, милая моя Олюша, как поживаешь? [Чехов, т. 12: 481]; Моя славная и родная, здравствуй! [Шолохов: 29]; Маня и ребята, здравствуйте! [Астафьев: 49]. В письмах В.П. Астафьева, этикетные слова, со значением приветствия часто предшествуют обращению и в письмах к друзьям: Привет, Володя! [Астафьев: 19]; Здравствуй, Иван! [Астафьев: 27].
В целом в бытовых письмах авторов XIX — начала. ХХ в. инициальные обращения нередко отсутствуют (особенно четко данная тенденция прослеживается в письмах Л.Н. Толстого), этикетные слова приветствия отмечены только в письмах к членам семьи; дружеские письма. М.А. Шолохова, всегда, начинаются обращением, а в письмах к жене обращение сопровождается этикетными словами приветствия; в письмах В.П. Астафьева практически всегда присутствуют начальные обращения, в большинстве случаев сопровождаемые словами приветствия.
В функции приветствия в письмах XIX — начала. ХХ в. может выступать высказывание с интенцией поздравления: Поздравляю тебя со днем твоего ангела, мой ангел, целую тебя заочно в очи [Пушкин, т. 3: 140]; С праздником, милый друг Маша! [Толстой, т. 18: 400]; Христос воскрес, милейший Николай Александрович! [Чехов, т. 11: 128]; С Новым годом! [Горький, т. 28: 52]. Подобные высказывания отмечены в нашем материале и финале письма, однако они не берут на себя функции, характерные для эпистолярных формул прощания.
Прощание в бытовых письмах, как правило, включает в себя несколько эпистолярных формул, некоторые из которых дублируют друг друга. В частности, используются следующие эпистолярные формулы: а) этикетные слова, употребляемые при завершении общения: прощай, до свидания и нек. др.; б) перформативы, т. е. слова, обозначающие действия, производимые в момент речи (в данном случае – при прощании): жму руку, целую, обнимаю, кланяюсь и т.п.; в) высказывания с интенцией пожелания, из которых наиболее частотным является пожелание здоровья: будь(те) здоров(ы) и нек. др.
Отбор эпистолярных формул обусловлен несколькими факторами: нормами речевого этикета, принятыми в ту или иную эпоху; индивидуальными предпочтениями автора письма; отношениями пишущего с адресатом. Рассмотрим конкретные примеры использования формул прощания в неофициальных письмах.
Так, в финале писем А.С. Пушкина к друзьям могут быть использованы единичные формулы: прощай, обычно с обращением: Прощай, душа моя! <> Прощай еще раз [Пушкин, т. 1: 140]; Прощай, моя радость [Пушкин, т. 1: 144]; Прощай, поэт [Пушкин, т. 1: 343]; обнимаю : Обнимаю тебя [Пушкин, т. 1: 191]; Обнимаю тебя, моя радость, обнимаю и крошку Всеволодчика [Пушкин, т. 1: 293]. Формулы прощания могут использоваться и одновременно в одном письме: Прощай, Эсхил, обнимаю тебя, как поэта и друга... [Пушкин, т. 1: 106].
В письмах Л.Н. Толстого к друзьям и родственникам наиболее частотной формулой прощания также является прощай, используемая как отдельно, так и в сочетании с другими эпистолярными формулами, обозначающими прощание: Прощай, душа моя, пиши мне, целуй Валерьяна и детей. <> Еще раз прощай, милый друг [Толстой, т. 18: 399]; Затем прощайте, очень кланяйтесь всем вашим [Толстой, т. 18: 509]. Прощайте, голубчик, милейшая барышня, жму вашу милую руку, Христос с вами [Толстой, т. 18: 440]; Затем прощайте, от души жму вам руку и желаю всего лучшего [Толстой, т. 18: 507].
Данные формулы отмечены в письмах Л.Н. Толстого и без слова прощай : От души целую ваши и бабушки Лизы руки, славному Ребиндеру желаю успеху, твердости духа и дружески жму руку. [Толстой, т. 18: 487]; Тетеньке целую ручки [Толстой, т. 18: 426].
Напротив, в письмах А.П. Чехова к близким слово прощай практически всегда используется в сочетании с другими эпистолярными формулами прощания: Прощай, желаю тебе всего лучшего. Поклон Лизе и Грише и твоим товарищам [Чехов, т. 11: 7] ; Прощай... Жму тебе руку и желаю тебе купно с твоей семьей всех благ [Чехов, т. 11:50]. Однако в письмах А.П. Чехова, относящихся к рубежу XIX и ХХ вв., данная формула сменяется формулой будь здоров и благополучен / богом храним / весел, и тем самым может быть охарактеризована как составляющая эпистолярного идиостиля писателя (отметим, однако, что формула будь здоров и весел активно использовалась на рубеже веков в письмах владимирского купечества (см.: [Фалина 2008:264]): Будь здоров и богом храним [Чехов, т. 12: 153]; Будь здоров и весел [Чехов, т. 12: 205]. Данная формула также может использоваться в сочетании с другими, традиционными: Будь здоров и благополучен. Жму руку [Чехов, т.12: 152]; А пока будь здоров и благополучен… Обнимаю тебя и крепко жму руку. Передай поклон Екатерине Николаевне [Чехов, т. 12: 499].
В дружеских письмах М. Горького наиболее частотной является эпистолярная формула жму руку, которая обычно используется в сочетании с формулами пожелания и может распространяться: Крепко жму Вам руку, здоровья Вам! здоровья и бодрости духа и желания работать больше [Горький, т. 28: 57] ; Желаю же Вам здоровья, бодрости духа, веры в себя, и — да здравствует жизнь!.. Крепко жму руку Вашу, талантливую Вашу руку [Горький, т. 28: 54].
В неофициальных письмах М.А. Шолохова используются разнообразные формулы прощания, как одиночные, так и составные: Ну, будь здоров, дорогой! [Шолохов: 137]; Обнимаю всех вас! [Шолохов: 146]; С приветом [Шолохов: 50]; Крепко жму руку. <…> Привет Игорю, Маргарите, дедушке, ежели он в Москве. Желаю Вам всего, всего хорошего [Шолохов: 89]; Обнимаю всех вас, крепчайше жму руки. <…> Желаю Вам в течение ближайших пятилеток ни в коем разе не болеть. Лучше уж я за Вас поболею. Ну, будьте здоровы… [Шолохов: 93]; Ото всех наших привет. Я почтительно кланяюсь Игорю Константиновичу и его жене, Вале — привет. Вам крепко жму руку. [Шолохов: 154].
Разнообразие формул прощания характерно и для эписто-лярия В.П. Астафьева: Обнимаю [Астафьев: 102]; С приветом [Астафьев: 15]; Привет семье [Астафьев: 124]; Ну, будь здоров. Жму руку [Астафьев: 10]; Ну, будь здоров. Обнимаю тебя [Астафьев: 27]; Ну, будь здоров. Привет семье. Обнимаю [Астафьев: 43].
Как видим, наиболее употребительная формула прощания в XIX в. - прощай - в ХХ в. сменяется формулами будь здоров и жму руку. В дружеских письмах М. Горького и В.П. Астафьева находим примеры трансформации второй формулы: Жму лапку [Горький, т. 28: 48]; До свидания! Жму Вам лапу, да поможет Вам море и воздух, и пусть не трогает Вас исправник [Горький, т. 28: 36]; Жму лапу [Астафьев: 31]; Жму крепко ваши лапы [Астафьев: 19]; Жму крепко лапу [Астафьев: 39]; Жму Вашу трудовую [Астафьев: 86]. Употребление слова лапа вместо слова рука, а также незамещенная позиция существительного в последнем примере призваны придать формуле и в целом прощанию иронический оттенок, а также сделать письмо более непринужденным.
Среди эпистолярных формул прощания в семейных письмах, т. е. в письмах к жене и детям, наиболее частотным является слово целую. Нередко эта формула используется как единственная при прощании: Целую тебя, женка, мой ангел [Пушкин, т. 2: 659]; Целую тебя, душенька, и детей; будь спокойна и не волнуйся. Андрюшу особенно целую [Толстой, т. 18: 828]; Итак, я тебя целую [Чехов, т. 12: 441]; Ну, целую, целую всех, тебя и Светика в особенности [Шолохов: 71]; Целую вас [Астафьев: 62].
Слово целую может быть использовано и в сочетании с другими формулами прощания: Кланяюсь и целую ручку с ермоловской нежностию Катерине Ивановне. Тебя целую крепко и всех вас благословляю: тебя, Машку и Сашку. Кланяйся Вяземскому [Пушкин, т. 3: 134]; Прощай, душенька, целую тебя и детей. [Толстой, т. 18: 668]; Ну, дуся, славная моя актри-сочка, до свиданья! Целую тебя крепко. [Чехов, т. 12, с. 449]; До свидания! Целую [Горький, т. 28: 283]; Целую мою милую дочурку крепко-раскрепко! Тебя целую еще крепче! Ну, до свиданья, милая! [Шолохов: 32].
В целом можно отметить тенденцию, уже отмеченную при анализе формул прощания в письмах к друзьям и родным, а именно смену ведущей формулы прощай на формулу будь(те) здоров(а,ы). Ср.: в письмах А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого: Прощай, душа. <> Целую и благословляю всех вас. Кланяюсь и от сердца благодарю тетку Катерину Ивановну за ее милые хлопоты. Прощай [Пушкин, т. 3: 176]; Прощай, душенька, до свиданья [Толстой, т. 18: 677] – в письмах А.П. Чехова, М. Горького, М.А. Шолохова: Будь здорова, немочка моя добрая, славная, тихая моя. < > Обнимаю и горячо целую, будь здорова и весела [Чехов, т. 12: 463]; Жду писем твоих и крепко жму руку. От всей души желаю тебе, друг мой, здоровья, хорошего настроения. До свидания [Горький, т. 28: 319]; Будьте здоровы, мои дорогие! Крепко вас обоих целую, желаю бодрости, не скучайте! [Шолохов: 80].
Письма, в которых автор выражает негативное отношение к поведению адресата, составляют весьма небольшой процент от всего числа писем к друзьям и родственникам. Однако можно выявить некоторые закономерности в употреблении эпистолярных формул приветствия и прощания в письмах с интенцией упрека. В частности, в сердитых письмах А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого формулы приветствия и прощания отсутствуют (исключение составляет обращение, которое, однако, подчеркивает раздражение автора: Безалаберный [Пушкин, т. 1: 75]). Одно из сердитых писем М. Горького также иллюстрирует данную закономерность (далее приводится цитата начала и конца письма): Положим, что я – «многоуважаемый», а Вы, надо думать, – неумный. < > Неужели, черт, в этом Вашем дурацком Петербурге так-таки уж и некому заменить Вас? Подумайте! [Горький, т. 28: 42—43]. Однако в другом письме М. Горького, ре- ализующем негативное отношение автора к адресату, использованы формулы приветствия и прощания: Уважаемый Владимир Феофилович! < > Всего доброго! [Горький, т. 28: 130]. Обращает на себя внимание стандартизованность формул приветствия и прощания и одиночное употребление формулы прощания. Данная закономерность четко прослеживается в письмах М.А. Шолохова и В.П. Астафьева: Дорогой тов. Рахилло! <> С приветом [Шолохов: 493]; Дорогой Иван! < > Будь здоров [Астафьев: 57], Дорогой Артур < > Будь здоров! [Астафьев: 180].
Таким образом, анализ употребления формул приветствия и прощания в бытовых письмах классиков русской литературы XIX–XX вв. позволяет сделать следующие выводы: 1) использо-вание/отсутствие тех или иных формул обусловлено, в первую очередь, характером взаимоотношений пишущего с адресатом, а именно степенью близости отношений и эмоциями, который говорящий испытывает к адресату; 2) в финале письма обычно употребляется не одна, а несколько формул прощания, дублирующих или дополняющих друг друга; 3) возможна трансформация формул, которую можно рассматривать как черту эпистолярного идиостиля автора; 4) на рубеже веков происходит изменение закономерностей употребления рассматриваемых формул: их использование становится обязательным даже в письмах с интенцией упрека, а ведущая формула прощания прощай заменяется формулой будь(те) здоров(а, ы).