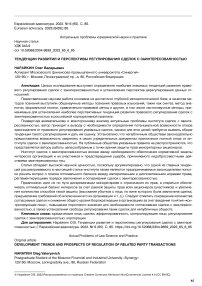Тенденции развития и перспективы регулирования сделок с заинтересованностью
Автор: Нарайкин О.В.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы юридической науки и практики
Статья в выпуске: 6 (65), 2023 года.
Бесплатный доступ
Целью исследования выступает определение наиболее значимых тенденций развития правового регулирования сделок с заинтересованностью и установление перспектив дерегулирования данных отношений. Представленная научная работа основана на достаточно глубокой методологической базе, в качестве методов познания выступили общенаучные методы познания правовых изысканий, такие как синтез, метод аналогии, формальной логики, сравнительно-правовой метод и другие, в том числе частнонаучные методы, применяемые для установления наиболее перспективных тенденций развития правового регулирования сделок с заинтересованностью в российской корпоративной практике. Подвергнув внимательному и всестороннему анализу актуальные проблемы института сделок с заинтересованностью, автор приходит к выводу о необходимости определения потенциальной возможности отказа законодателя от правового регулирования указанных сделок, однако для этих целей требуется выявить общие тенденции такого регулирования и дать им оценку. Установлено, что непубличным обществам законодательно предоставлена возможность закрепить в своих учредительных документах практически полный отказ от института сделок с заинтересованностью. На публичные общества указанные правила не распространяются, что представляется автору работы целесообразным с точки зрения защиты прав миноритарных акционеров. Институт сделок с заинтересованностью возник ввиду необходимости обеспечения нормативной защиты интересов организаций и их участников и предотвращения ущерба, причиняемого недобросовестными действиями заинтересованных лиц. Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку аргументировано, что одной из главных тенденций рассматриваемого в настоящей статье института также являются предпринимаемые законодателем попытки решить вопрос о поиске оптимального баланса между императивными и диспозитивными нормами права, регламентирующими порядок заключения и оспаривания сделок с заинтересованностью. Предложено идти не по пути дискриминации миноритариев и ограничения их прав, а стараться обеспечивать оптимальный баланс интересов за счет равной защиты прав всех акционеров (участников) и увеличения количества способов такой защиты (взыскание убытков с лица, по вине которого была заключена сделка, предъявление требований об исключении его из организации и т. д.). Следует отметить сокращение количества согласуемых сделок и снижение общего уровня бюрократизации в организациях за счет введения понятия «контролирующее лицо», повышения порогового значения для необходимости согласования сделок с заинтересованностью, а также установления свободы регулирования таких сделок для непубличных обществ.
Юридические лица, сделки, аффилированность, контролирующее лицо, регулирование сделок с заинтересованностью, корпорации
Короткий адрес: https://sciup.org/140303584
IDR: 140303584 | УДК: 343.9 | DOI: 10.52068/2304-9839_2023_65_6_85
Текст научной статьи Тенденции развития и перспективы регулирования сделок с заинтересованностью
«Глобализация цифровых систем современного общества неминуемо влияет на экономическую и правовую системы» [4, с. 20]. Общий вектор развития института сделок с заинтересованностью детерминирован направлениями развития гражданского законодательства в целом и корпоративного законодательства в частности в силу своей неразрывной взаимосвязи. Ко всему прочему, рассматриваемый институт имеет органическое единство с институтом недействительности сделок, так как прямо опосредован последним, а потому тенденции развития норм о недействительных сделках не могут не оказывать воздействия на нормативное регулирование экстраординарных сделок, в том числе сделок с заинтересованностью.
В этом можно наглядно убедиться на примере тех концептуальных изменений, которые были внесены в соответствующие сферы гражданского законодательства с момента принятия Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» [1]. Полагаем, что среди главных тенденций развития современного корпоративного права справед- 86
ливо назвать его унификацию в отношении корпораций различных организационно-правовых форм [3, с. 454]. Но, к глубокому сожалению, применительно к институту сделок с заинтересованностью говорить однозначно о наличии указанной тенденции затруднительно ввиду того, что до сих пор действуют различные правила в отношении разных видов юридических лиц. Более того, в отношении некоторых организационно-правовых форм (например, общественных объединений) правила о сделках с заинтересованностью в принципе не действуют, так как они не нашли свое отражение в специальных законах.
Ко всему прочему, по результатам принятия Закона № 343-ФЗ правовой режим сделок с заинтересованностью в хозяйственных обществах приобрел множество существенных различий с режимом аналогичных сделок, действующим применительно к юридическим лицам иных организационно-правовых форм. Можно отметить отсутствие гармонизации Законов об АО и ООО не только с другими специальными законами, посвященными деятельности отдельных видов юридических лиц, но и с положениями ГК РФ в целом [14, с. 48].
Полагаем, что по мере исчезновения мотивации в рамках корпоративных отношений наступает глубокая рецессия на фоне снижения реальных доходов населения и перехода к осторожному потребительскому поведению (попытка сохранить текущее качество жизни и обратиться к сбережениям при благоприятном стечении обстоятельств). Частичная долларизация рынка не исключена, если она следует за инфляцией и девальвацией с некоторым запаздыванием [10, с. 25]. В юридической литературе не единожды акцентировалось внимание на проблеме существования необоснованного разнообразия в правовом регулировании фактически одних и тех же отношений, а вследствие проведенной реформы данная проблема усугубилась, приобрела новые горизонты освоения. «Конечной задачей деятельности юридических лиц является получение прибыли их участников путем осуществления определенного вида предпринимательской деятельности. Однако права участников таких организаций также подразумевают право на участие в деятельности юридических лиц, контроль за ней и принятие соответствующих решений» [5, с. 49].
По мнению автора, законодателю следует способствовать процессу создания общих правил правового регулирования и устранению различий в нормативных правовых актах в той части, которая касается сделок с заинтересованностью, особенно в связи с тем, что большая часть имеющихся расхождений, в сущности, не носит какого-либо осмысленного характера [2, с. 18] и обусловлена, как представляется, отсутствием единого взгляда на институт сделок с заинтересованностью, а также комплексного понимания задач, которые стоят перед ним, и функций, которые он призван выполнять.
Необходимо признать, что в 2020–2023 годах экономическая система нашей страны находится в кризисном состоянии, что отрицательно сказалось на состоянии корпораций и отразилось в нарушении прав участников и третьих лиц [6, с. 169]. Нетрудно заметить, что в свете реформирования ГК РФ наметилась устойчивая тенденция расширения пределов применения принципа диспозитивности в области корпоративного права, что не могло также не отразиться на правовом регулировании сделок с заинтересованностью [9, с. 89]. Нормы, которые некогда носили исключительно императивный характер и всякое нарушение которых могло привести к признанию сделки недействительной, теперь все чаще содержат внутри себя оговорки о потенциальной возможности отступления от установленных правил в случае, если уставом общества будет предусмотрено иное требование к порядку совершения и одобрения сделок с заинтересованностью.
Ранее в законодательстве предусматривалась возможность непубличных обществ устанавливать в своих уставах любой другой порядок совершения сделок с заинтересованностью, отличный от того, который предусмотрен законодательством, либо сделать оговорку о том, что на них вообще не распространяются требования законодательства в части регулирования таких сделок. Также теперь возможно указать, что одни правила Закона об АО или Закона об ООО подлежат применению, тогда как применение других норм исключается. Подобные правила допускается закреплять в уставе либо при непосредственном учреждении общества, либо при внесении изменений в текст уже утвержденного устава. Единственное требование ко внесению таких положений в текст учредительного документа – наличие единогласного согласия всех участников общества (п. 8 ст. 83 Закона об АО, п. 9 ст. 45 Закона об ООО).
Положениями учредительных документов не могут быть изменены или отменены условия признания сделок недействительными, закрепленные законодательством и определяющие наличие ущерба в качестве обязательного основания для оспаривания сделки с заинтересованностью. К императивным стоит также отнести те правила, которые касаются условий о круге лиц, имеющих возможность оспаривать соответствующие сделки, условия о распределении бремени доказывания, о праве акционеров, имеющих возможность оспаривать сделки с заинтересованностью, на получение информации об этих сделках и т. д.
Таким образом, непубличным обществам законодательно была дана возможность закрепить в своих учредительных документах практически полный отказ от института сделок с заинтересованностью. На публичные общества указанные правила не распространяются, что представляется автору работы целесообразным с точки зрения защиты прав миноритарных акционеров.
Анализ норм действующего законодательства и правоприменительной практики позволяет выявить и другие тенденции правового регулирования сделок, совершаемых юридическими лицами в особом порядке. Можно, к примеру, прийти к однозначному выводу, что по мере развития рассматриваемого института законодатель пришел к осознанию необходимости создания дополнительных правовых механизмов, затрудняющих порядок оспаривания сделок с заинтересованностью. Тенденция на сокращение правовых воз- можностей признания таких сделок недействительными с очевидностью проглядывалась в свете принятия Закона № 343-ФЗ.
Сделки с заинтересованностью были признаны оспоримыми сделками, на которые распространяются все правила ГК РФ о таких сделках, в том числе усложняющие процесс их оспаривания. К довершению всего в Законы об АО и ООО были внесены и другие специальные условия, целью которых было также затруднить оспаривание сделок с заинтересованностью.
Единственным правовым механизмом, направленным на упрощение процесса оспаривания сделок с заинтересованностью, является закрепленная законом обязанность заинтересованных лиц по информированию общества о своей заинтересованности, так как в случае нарушения данной обязанности и при отсутствии одобрения сделки будет действовать презумпция причинения ущерба интересам общества.
Также установлено, что положения о сделках с заинтересованностью не распространяются на сделки, предметом которых является имущество, не превышающее 0,1 % балансовой стоимости активов общества. Профессор А.Н. Левушкин обоснованно устанавливает, что, «несомненно, заинтересованность в краткосрочной прибыли по отношению к наличию акций, обращающихся среди неопределенного круга лиц, – неотъемлемый атрибут современной экономической системы» [7, с. 15]. К сожалению, в рамках корпоративного законодательства ярко выражена тенденция по повышению правовой защиты прав мажоритарных участников в ущерб правам миноритариев [11, с. 38]. Примером может служить уже упомянутое автором ранее ограничение прав миноритарных акционеров (участников) на возможность подачи косвенного иска о признании сделки с заинтересованностью недействительной посредством установления минимального порогового значения владения голосующих акций (общего количества голосов участников).
Таким образом, можно прийти к выводу, что ограничение прав миноритарных участников, как неоднократно отмечалось в юридической литературе, стало полноценным и самостоятельным вектором развития корпоративного законодательства в сфере регламентации прав акционеров (участников) [8, с. 30].
При этом подобную тенденцию сложно оправдать необходимостью снижения возможностей по оспариванию корпоративных сделок, так как данная цель должна достигаться посредством уточнения оснований для оспаривания сделок и 88
возложения обязанности по доказыванию дополнительных обстоятельств, а не путем ограничения прав миноритарных участников.
Установление количественного барьера блокирует для добросовестных миноритариев возможность оспаривать сделки с заинтересованностью и одновременно с этим не решает проблему возможного злоупотребления со стороны тех участников, которые будут пользоваться своим положением по владению более одного процента общего числа голосов, чтобы направлять обществу несметное количество необоснованных исков.
По этой причине многие эксперты считают наиболее оптимальным закрепление в отношении сделок с заинтересованностью давно известного корпоративному праву критерия «невозможности повлиять на результаты голосования», так как любое установление конкретных порогов может привести к ситуациям, в которых такой порог будет или не в меру завышенным, или слишком заниженным [12, с. 119].
В связи с этим необходимо отметить, что законодателю стоит идти не по пути дискриминации миноритариев и ограничения их прав, а стараться обеспечивать оптимальный баланс интересов за счет равной защиты прав всех акционеров (участников) и увеличения количества способов такой защиты (взыскание убытков с лица, по вине которого была заключена сделка, предъявление требований об исключении его из организации и т. д.).
Вне всяких сомнений, обеспечение принципа правового равенства в части охраны прав и законных интересов миноритарных и мажоритарных участников и самих организаций будет отвечать целям, которые ставил перед собой законодатель, формируя институт сделок с заинтересованностью.
Подводя итоги сказанному, важно отметить следующее. Несмотря на то, что принятие Закона № 343-ФЗ не стало решением некоторых прежних проблем правовой регламентации сделок с заинтересованностью, а также повлекло за собой и возникновение новых, нельзя не упомянуть о положительных итогах реформирования рассматриваемого института. Среди них можно отметить, в первую очередь, сокращение количества согласуемых сделок и снижение общего уровня бюрократизации в организациях за счет введения понятия «контролирующее лицо», повышения порогового значения для необходимости согласования сделок с заинтересованностью, а также установления свободы регулирования таких сделок для непубличных обществ.
Те же пробелы, которые существуют на сегодняшний день в законодательстве, необходимо нивелировать, однако представляется крайне важным обеспечение стабильности правового регулирования и, как следствие, сохранение возможности субъектов гражданского оборота нормально вести хозяйственную деятельность [16, с. 161]. Любое внесение изменений в законодательство должно происходить постепенно, так как данный процесс требует глубокого погружения законодателя в опыт правоприменения, практику компаний по созданию положений устава, предусматривающих квалификацию и порядок согласования сделок, осложненных конфликтом интересов.
Установив конкретные проблемы правового регулирования сделок с заинтересованностью и обозначив тенденции развития данного института, далее необходимо определить некоторые перспективы применения норм о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
В последние годы между учеными вновь развернулась дискуссия, в рамках которой озвучивались как предложения по необходимости последующей модернизации в части правовой регламентации института сделок с заинтересованностью [15, с. 189], так и радикальные позиции, обосновывающие либо полную отмену указанного института, либо максимальное сужение сферы его действия [13, с. 16].
Как уже отмечалось ранее, рассматриваемый нами институт был подвержен серьезным изменениям в части либерализации оснований порядка согласования сделок с заинтересованностью, возрастания роли диспозитивного начала установленных норм и приближения процедуры их обжалования к общим нормам ГК РФ о признании сделок недействительными.
Упомянутые тенденции привели к тому, что для обществ с ограниченной ответственностью и непубличных акционерных обществ институт сделок с заинтересованностью существенным образом утратил прежнюю актуальность, так как в отношении названных форм корпораций установлены правила, имеющие чересчур широкие диспозитивные границы, c закрепленной возможностью полного отказа от их применения путем внесения соответствующих положений в устав общества.
Современные нормы о сделках с заинтересованностью постепенно перестают выполнять функцию предотвращения ущерба, так как для заключения сделки с заинтересованностью теперь не нужно получать предварительное согла- сие уполномоченного органа общества, а отсутствие такого согласия не является основанием ее недействительности. Законодатель фактически не связывает наличие или отсутствие согласия (одобрения) сделки с заинтересованностью с какими-либо правовыми последствиями, так как даже предварительное получение такого согласия не будет выступать препятствием для оспаривания сделки. То же самое касается соблюдения или несоблюдения вообще всех установленных в законодательстве правил, касающихся сделок с заинтересованностью.
Список литературы Тенденции развития и перспективы регулирования сделок с заинтересованностью
- Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации». Доступ из информационной правовой системы «Гарант».
- Габов А.В. Институт крупной сделки в российском праве: основные этапы, тенденции и перспективы развития // Предпринимательское право. 2018. № 3. С. 3–30.
- Гутников О.В. Развитие корпоративного законодательства // Научные концепции развития законодательства: монография / отв. ред.: Т.Я. Хабриева, М.Ю. Тихомиров. М., 2017. С. 451–463.
- Левушкин А.Н., Тюлин А.В. Deepfake и системы искусственного интеллекта в парадигме развития цифрового права // Юрист. 2021. № 11. С. 19–24.
- Левушкин А.Н. Реализация прав супругов при осуществлении деятельности юридического лица // Журнал российского права. 2016. № 3. С. 47–55.
- Левушкин А.Н. Конфликт интересов между субъектами корпоративных правоотношений при проведении сделок с акциями // Актуальные проблемы российского права. 2022. № 12. С. 168–174.
- Левушкин А.Н. Обеспечение баланса интересов мажоритарных и миноритарных акционеров в корпоративных правоотношениях // Гражданское право. 2022. № 6. С. 14–18.
- Ломакин Д.В. Корпоративные права участников хозяйственных обществ: актуальные проблемы и перспективы нормативного регулирования // Предпринимательское право. 2018. № 2. С. 28–34.
- Маковская А.А. Императивные и диспозитивные нормы в корпоративном законодательстве (ошибки в формулировках, проблемы толкования и правоприменения) // Вестник гражданского права. 2019. № 5. С. 79–109.
- Нарайкин О.В. Применение ипотеки при долевом строительстве: тенденции и перспективы // Право и экономика. 2023. № 8. С. 23–28.
- Перова Ю.А. Новеллы в законодательстве о крупных сделках и сделках с заинтересованностью // Образование и право. 2017. № 4. С. 37–40.
- Степанов Д.И. Новый режим оспаривания крупных сделок: реформа ради реформы? // Закон. 2015. № 9. С. 110–141.
- Фейзрахманова Д.Р. Реформирование института крупных сделок и сделок с заинтересованностью: результаты, проблемы и перспективы // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 11 (96) (ноябрь). С. 14–18.
- Шиткина И.С. Особенности развития современного корпоративного законодательства и тенденции правоприменительной практики // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 9. С. 45–65.
- Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. Т. 1. Общие положения о юридических лицах / отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Синицын. М., 2015.
- Якубовская Л.Р. Значение этапа квалификации в юридической процедуре одобрения сделок органами управления акционерного общества // Вестник экономики, права и социологии. 2014. № 2. C. 158–161.