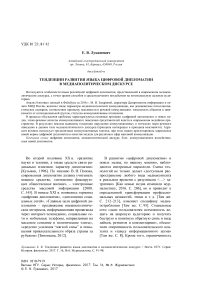Тенденции развития языка цифровой дипломатии в медиаполитическом дискурсе
Автор: Лукашевич Елена Васильевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языки и дискурсы СМИ
Статья в выпуске: 6 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Исследуются особенности языка российской цифровой дипломатии, представленной в современном медиаполитическом дискурсе, с точки зрения способов и средств речевого воздействия на потенциальную целевую аудиторию. Анализ блоговых записей в Фейсбуке за 2016 г. М. В. Захаровой, директора Департамента информации и печати МИД России, включал такие параметры медиаполитической коммуникации, как доминантные психолингвистические сценарии, соответствие принципу вежливости в речевой коммуникации, тональность общения в зависимости от интенциональной группы, статусно-коммуникативные отношения. В процессе обсуждения проблемы характеризуются основные признаки «цифровой дипломатии» и новых медиа, этико-речевые аспекты коммуникативного поведения представителей власти в современном медийном пространстве. В результате анализа выявлены тенденции нарушения коммуникативных и этических норм речевого поведения в данном типе медиаполитического дискурса (принципа кооперации и принципа вежливости). Адресант активно использует троллинговые коммуникативные тактики, при этом можно прогнозировать закрепление новой нормы цифровой дипломатии в качестве модели для различных сфер массовой коммуникации.
Цифровая дипломатия, медиаполитический дискурс, блог, коммуникативное воздействие, язык новой дипломатии
Короткий адрес: https://sciup.org/147219801
IDR: 147219801 | УДК: 81?23;
Текст научной статьи Тенденции развития языка цифровой дипломатии в медиаполитическом дискурсе
Во второй половине ХХ в. «развитие науки и техники, а также средств связи радикально изменило характер дипломатии» [Кузьмин, 1996]. По мнению В. И. Попова, современная дипломатия должна учитывать мощное средство, «мгновенно фиксирующее общественное мнение», – электронные средства массовой информации [2000. С. 545]. В начале ХХI в. появились термины «цифровая дипломатия», «дипломатия социальных сетей». «Главные цели цифровой дипломатии – продвижение внешнеполитических интересов, информационная пропаганда через интернет-телевидение, социальные сети и мобильные телефоны, направленная на массовое сознание и политические элиты», «средство усиления “мягкой силы” и повышения привлекательности образа страны за рубежом» [Зиновьева, 2012].
В развитии «цифровой дипломатии» и новых медиа, по нашему мнению, наблюдаются интересные параллели. Смена технологий не только делает «доступным распространение любого вида медиаконтента в реальном времени с разумными <…> затратами» [Как новые медиа изменили журналистику, 2016. С. 206], но и приводит к определенной трансформации профессиональных ценностей, этики и т. д. [Там же. С. 212–213], изменяет специфику медиапотребления [Там же. С. 95]. Социальные сети «дали пользователям возможность вещать на широкую аудиторию и получать быструю и понятную обратную связь в виде лайков, ретвитов и комментариев», обеспечили оперативность пользовательского контента и «завесу информационного шума» [Там же. С. 8]. Кроме того, ограниченность
Лукашевич Е. В. Тенденции развития языка дипломатии в медиаполитическом дискурсе // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 6: Журналистика. С. 91–98.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 6: Журналистика
человеческого мозга к концентрации внимания в век информационной перегрузки приводит к тому, что «главы компаний, политические лидеры, кинозвезды держат рядом с собой специалистов, которые занимаются тем, что ограничивают поступление информационного мусора, а важное, наоборот, выделяют и доносят в более полном виде» [Как новые медиа изменили журналистику, 2016. С. 8–9].
На наш взгляд, новые технологии трансформируют сам процесс взаимодействия «цифрового дипломата» с потенциальной аудиторией. Доверительность в коммуникации в значительной степени зависит от репутации коммуникантов и дистанции между ними, а дистанция между источником информации и ее получателями в интернет-общении, как правило, сокращается за счет использования определенных коммуникативных тактик, техник, средств выразительности – как вербальных, так и аудиовизуальных. Этому способствуют разная степень интерактивности и официальности медиакоммуникации, оперативность информации, возможности воздействия на аудиторию, степени ее вовлеченности в обсуждение проблемы и др. Кроме того, общедоступность к каналу информации снимает вопрос о конфиденциальности информации. Поэтому способность / готовность фильтровать получаемую информацию – это необходимый элемент медиаграмотности всех субъектов медиакоммуникации.
Актуальность предпринятого нами исследования обусловлена:
-
1) его включенностью в современные парадигмы исследований медиакоммуникации;
-
2) необходимостью изучения нового феномена цифровой российской дипломатии, особенно с позиций эффективности использования ресурсов языка в разных ситуациях медиакоммуникации, способов и средств речевого воздействия на потенциальную целевую аудиторию, соответствия принципам кооперации и вежливости как необходимым условиям успешности речевого взаимодействия коммуникантов;
-
3) направленностью на выявление в конкретных дискурсивных практиках современной цифровой дипломатии этико-речевых ошибок и коммуникативных неудач.
Цель данной статьи – проанализировать особенности языка российской цифровой дипломатии, представленной в современном медиаполитическом дискурсе, с точки зрения способов и средств речевого воздействия на потенциальную целевую аудиторию. Материалом для анализа мы избрали блоговые записи в Фейсбуке за 2016 г. М. В. Захаровой, Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса, директора Департамента информации и печати МИД России 1.
Среди «комбинированных типов дискурса, включающих политическое общение в качестве необходимого компонента», В. И. Карасик выделяет медиаполитический дискурс , целью которого является характеристика определенного политического курса [2014. С. 229–230]. Этот тип дискурса реализуется в двух разновидностях: политико-популярный (агитационно-пропагандистское разъяснение широким массам позиций политических субъектов) и политикоаналитический (комментарии политических аналитиков по поводу политических событий), при этом в сферу обсуждения в дискурсе включаются не только политика , но и широкий круг морально-этических проблем [Там же. С. 230].
Личный блог М. Захаровой в Фейсбуке представляет собой регулярно обновляемую колонку, где дается оценка какой-либо важной политической ситуации, проблемы, прямо выражается авторская позиция. М. Захарова публикует записи как частное лицо, но при этом свой статус обозначает как «директор Департамента информации и печати МИД России», придавая блогу более высокий, официальный статус. Формально адресатом публикаций М. Захаровой являются читатели ее блога. Но, как представляется, основным адресатом выступает любой представитель сферы массовой коммуникации – как российский, так и зарубежный.
М. Захарова, характеризуя «цифровую дипломатию», указывает: «Одним из первопроходцев и даже создателем нового направления в этой сфере стал шведский мининдел Карл Бильдт. Острый, балансирующий на грани, с желтоватыми оттенками, его аккаунт в Twitter стал знаковым, однозначно дав понять: дипломатический язык теперь иной – кто не может быстро, доступно и красочно прокомментировать в сети то или иное событие, тот не опоздал – того просто нет. Это сетевое явление можно образно назвать эпохой превращения официальной критики в троллинг» (Эхо Москвы: Блоги / Мария Захарова, 04.03.2016). Анализ тенденций развития современной массовой коммуникации свидетельствует о том, что «троллинг может превратиться в востребованную специализацию представителей целого ряда профессий, например, таких как журналистика, мировая политика, международная экономика и др.» [Внебрачных, 2012].
Такие приемы речевого поведения тролля, как уход от темы дискуссии, ее подмена или искажение; использование любого промаха оппонента для привлечения внимания аудитории, ее провокации, подстрекательства; навязывание своей точки зрения, манипуляция ценностями / сознанием собеседника, социально-речевая агрессия и т. п., вступают в противоречие с выработанными на протяжении многих веков требованиями дипломатического этикета (корректного, тактичного, уважительного, деликатного, осторожного), обязательного в том числе и для М. В. Захаровой, поскольку она официально является Чрезвычайным и Полномочным Посланником II класса МИД России.
Для определения механизмов речевого воздействия мы использовали теорию доминантного сценария А. А. Котова (далее – д-сценарий) [Котов, 2004а]. В своей теории автор использует оппозицию «свои – чужие», где «свои» – это группа адресата коммуникации, а «чужие» – контргруппа, агрессор [Котов, 2004б]. Важно отметить, что наиболее активно в анализируемых текстах используются д-сценарии группы, которую А. А. Котов метафорически обозначил так: «Действия агрессора против жертвы: Что делают с тобой твои враги?» [Там же]. Для нашего исследования существенно обозначить отсутствие отрицательных коннотаций в понимании исследователем терминов «агрессор», «жертва» и др.
Мы выявили наиболее часто используемые в блоговых записях М. Захаровой доминантные психолингвистические сценарии, а также установили способы и средства речевого воздействия, которые в соответствии со своим коммуникативным намерением использует адресант для воздействия на адресата блога.
-
1. Д-сценарий «Эмоциональность» активизируется сообщениями о проявлении эмо-
ций агрессором («Чубайс обижался на критику») [Там же]. На наш взгляд, у Захаровой мы чаще наблюдаем ситуации, когда эмоции активно проявляет она сама. Эмоциональность «связана со стержневыми особенностями личности, ее нравственным потенциалом: направленностью мотивационной сферы, мировоззрением, ценностными ориентациями» [Краткий психологический словарь, 1998]. Адресант намеренно эмоционально преподносит материал с целью пробуждения определенных чувств у целевой аудитории.
-
2. Д-сценарий «Опасность» активизируется с помощью сообщений о том, что некоторое лицо или ситуация представляют опасность для коммуниканта. Сообщение об опасности, как правило, вызывает у человека чувство страха. Согласно А. Г. Донских, игра на «болевых точках» человека (чувствах страха, вины и т. п.) является наиболее эффективным механизмом воздействия [Донских, 2011. С. 25]. Часто сценарий «Опасность» сопровождается указанием на обман, скрытность или хитрость агрессора, т. е. признаками сценария «Обман». Кроме того, встречаются сообщения об ограничении свободы, действий или каких-либо благ не
-
3. Очень активно используются М. Захаровой д-сценарии «Неадекватность», «Субъективность», «Непоследовательность», которые активизируются сообщениями о неадекватности, необъективности, непоследовательности действий агрессора или о неадекватных, противоречивых представлениях агрессора о чем-л. Так как основным агрессором в текстах М. Захаровой выступают США, то примеров реализации данного сценария много: « Вы в своём уме , Герш Кунтцман? Я понимаю , что в Штатах , в том числе не без Ваших усилий , доперепи-сывались историю 20 века до полнейшего абсурда , когда люди вообще перестали ориентироваться во времени и пространстве. Но не настолько же?! » (Захарова, 21.12.2016); « Западные СМИ за эти годы отлично “ изучили ” всё , что связано с Россией – от Чечни до Олимпийских игр. Они посвятили Кремлю сотни передовиц , придумали сочинские туалеты , “российских хакеров” и тысячи танков на Украине. Что-то из этого было искаженной до неузнаваемости правдой , что-то их собственной фантазией , на что-то журналисты купились , принимая вбросы за новости . Но в любом случае , этот иллюзорный мир был им приятен и комфортен. Потому что они ничем не рисковали , описывая несуществующую действительность » (Захарова, 10.11.2016) и др.
Все записи за 2016 г. содержат данный д-сценарий. Например : « К сожалению , я думаю именно об этом. Комментарии “погибших в Орландо не жаль – они геи” просто отвратительны » (Захарова, 14.06.2016); « У меня в жизни бывали разные периоды. В том числе очень тяжелые . Периоды испытаний. Иногда казалось так тяжело , что больше нет сил . И сегодня я могу вам сказать: именно в такие минуты я вспоминала нашу паралимпийскую сборную , отдельных спортсменов. И мне становилось стыдно за свое бессилие в расцвете сил » (Захарова, 07.08.2016) и др.
Данный сценарий позволяет М. Захаровой использовать коммуникативные тактики убеждения и внушения, которые, по мнению И. А. Стернина, основываются на авторитете адресанта, минимуме фактов и максимальном эмоциональном давлении, навязывании собственной точки зрения. Соответственно, нарушается коммуникативное равновесие (баланс отношений с собеседником) [Стернин, 2012. С. 49–52], особенно если учитывать, что в силу социального статуса у М. Захаровой довольно сильная коммуникативная позиция.
только читателя блога М. Захаровой, но и потенциально всего мирового сообщества, иначе говоря, наблюдаются признаки сценария «Ограничение».
Чаще реализуется вариант, когда М. Захарова предупреждает о существующей или возможной известной ей опасности со стороны других государств или их коалиций: « То же самое было с Ираком. Будет с Афганистаном. Сейчас аналогичную схему мы наблюдаем в Сирии . Сколько ещё это будет продолжаться? Сначала США нарушают международно-правовые нормы , до блеска лакируя свои действия информационными кампаниями . А через несколько лет , когда этот блеск тускнеет , перестает слепить глаза , и все обнаруживают мешающиеся под ногами международного сообщества руины очередного государства , Вашингтон называет это ошибкой , а какое-то очередное государство – агрессором » (Захарова, 11.04.2016); « Нет сомнений , что многие украинцы готовы создать цивилизованную и миролюбивую страну. Но только вряд ли им это позволят спонсоры большой геополитической игры . Это неслыханная роскошь для современного мира быть цивилизованным , без унижения достоинства и миролюбивым . <...> Проблема в том, что ставка сделана именно на создание агрессивного и дремучего сырьевого спутника цивилизованного мира , существующего на определенном отдалении , а не равноправной его части » (Захарова, 25.03.2016).
Второй вариант, когда опасность исходит от коммуникатора, встречается в блоге М. Захаровой редко. Причем в роли коммуникатора выступает Россия, а М. Захарова, будучи директором Департамента печати и информации МИД РФ, ее представляет. В блоговых записях за 2016 г. мы не встретили контекстов, где М. Захарова эксплицитно обозначала бы опасность России для других государств. Однако сценарий «Опасность» со стороны России обозначают официальные представители других государств, и это служит информационным поводом для М. Захаровой, чтобы обозначить позицию нашего государства. Ср., например: « Представитель Белого дома выдал за факт , что Россия , по его словам , “ наносит удары по гражданскому населению для достижения своих целей ” в Сирии. “Мы также знаем , что Россия поддерживает режим
Президента Сирии Башара Асада таким образом , что это затрудняет наши усилия по поиску политического решения” , – добавил он » (Захарова, 27.10.2016).
Как правило, д-сценарий «Неадекватность» сопровождается д-сценарием «Тщетность», который активизируется сообщениями о бесполезности каких бы то ни было действий агрессора, например: « Вчерашнее прозрение было болезненным – я видела белые лица американских корреспондентов , которым давала интервью. Жесткая посадка – ещё не катастрофа. <…> Это не злорадство. Наоборот , это надежда. Потому что объективность – важное профилактическое средство от мировых потрясений » (Захарова, 10.11.2016).
Регулярность использования данных сценариев предполагает, что М. Захарова сознательно нарушает рекомендуемые ком-муникативистами правила бесконфликтного общения: не соблюдаются принципы минимизации негативной информации, терпимо- сти к собеседнику, зато доминирует благоприятная самоподача адресанта и той социальной группы, к которой он принадлежит [Стернин, 2012. С. 121–123],
В инвентаре А. А. Котова отмечены только отрицательные д-сценарии. Мы обнаружили положительные д-сценарии, которые реализуются в блоговых сообщениях М. Захаровой. Так, сценарий «Ценностная ориентация» активизируется сообщениями, в которых она пытается воздействовать на аудиторию, апеллируя к традиционным человеческим ценностям: мир, безопасность, доверие, Родина, семья, здоровье, надежда и др.
Как правило, ценностная ориентация у М. Захаровой сопровождается сценарием «Призыв к проявлению гражданской позиции», когда коммуникатор в эксплицитной или имплицитной форме призывает аудиторию к совершению каких-либо действий, направленных на улучшение ситуации в обществе, стране, мире: « И снова повторяю: это наша общая боль , и только общее неприятие терроризма , отказ от деления террористов на умеренных и неумеренных , объединение усилий в контртеррористической борьбе дадут миру шанс на выживание » (Захарова, 26.06.2016); « Давайте бороться не с “ гибридными угрозами ” , а с реальными . И делать это вместе , ведь мы так похожи , когда гибнем в результате действий террористов и экстремистов. Пора сделать так , чтобы наши разногласия сглаживались до , а не после подобных трагедий » (Захарова, 15.07.2016). В этих контекстах мы видим реализацию коммуникативной тактики «сближения» с адресатом, в роли которого выступают западные СМИ, государства, международные организации, различные дипломатические структуры и т. п. К сожалению, часто декларативный призыв сопровождается нарушением фактора официальной дистанции между коммуникантами и социального статуса.
Нарушение принципа вежливости в медиаполитическом дискурсе с участием официальных представителей российской власти обнаруживается в первую очередь в тональности текста и характеристике интенциональных групп. Так, например, преимущественно мажорная тональность с общим оптимистическим настроем, преобладанием положительных оценок и обещаний, повышением собственного социального статуса, ощущением дистанции наблюдается в текстах М. Захаровой, если речь идет о «своих» (Россия, МИД РФ, россияне, сама Мария). Преимущественно минорная тональность с общим критическим (и даже обличительным, разоблачительным) настроем, преобладанием негативных оценок, иронии (реже – сарказма), уничижительности, фамильярности, назидательности, поучения; нарушением дистанции, если речь идет о «других» – «чужих» (коалициях, странах-оппонентах, особенно США и Украине, иностранных журналистах, зарубежных СМИ, «врагах народа» и др.). На наш взгляд, принцип кооперации в значительной степени тоже ориентирован на «своих» и «чужих», хотя после чтения блоговых записей М. Захаровой складывается впечатление, что у России практически нет «своих» в современном мире, зато группа «чужих» довольно широко представлена.
Мы обнаружили нарушение М. Захаровой практически всех максим принципа вежливости [Клюев, 2002. С. 155–179]. Чаще других ею нарушаются максимы симпатии, одобрения, согласия. Максима скромности тоже не актуальна для российского «цифрового дипломата» (Захарова «иронизирует», «ставит на место», «обижается», «опровергает», «называет ложью», «называет неудачниками» и др.). Для самой М. Захаровой это мощное средство имиджирования, самопрезентации, паблисити (см., например, информацию о ее включении британской телерадиокомпанией BBC в престижный ежегодный рейтинг «100 женщин мира»).
В качестве резюме отметим, что М. Захарова, официальный представитель российской дипломатии, для общения с различными целевыми аудиториями активно использует новые медиа, в том числе личные страницы в социальных сетях. Предлагаемые ею информационные поводы стимулируют обсуждение обозначенных проблем в виде информационного эха и информационных волн на медиаплощадках разного масштаба и значения. Анализ блоговых записей М. Захаровой позволил выявить нарушение коммуникативных и этико-речевых норм в данном типе дискурса. Адресант активно использует троллинговые коммуникативные тактики, при этом можно прогнозировать закрепление новой нормы цифровой дипломатии в качестве актуальной и эффективной модели для различных сфер массо- вой коммуникации. Публичная цифровая дипломатия в России с расширением сфер действия информационных войн разного масштаба находит все больше сторонников среди политиков, государственных служащих, общественных деятелей. Несмотря на увеличение доли политических конфликтов и скандалов, связанных с нарушением этико-речевых норм публичной коммуникации в социальных сетях, коммуникативной некомпетентностью многих политиков и чиновников, медиапопулярность и медиарейтинги привлекают все новых субъектов, заставляя забыть любимую М. Захаровой прецедентную ситуацию с голым королем.
Список литературы Тенденции развития языка цифровой дипломатии в медиаполитическом дискурсе
- Внебрачных Р. А. Троллинг как форма социальной агрессии в виртуальных сообществах // Вестн. Удмурт. ун-та. Философия. Социология. Психология. Педагогика. 2012. Вып. 1. С. 48-51.
- Донских А. Г. Убедить. Призвать. Добиться своего! Речевое воздействие на собеседника. Практическое пособие для манипулятора. СПб.: Речь, 2011. 128 с.
- Зиновьева Е. Россия во всемирной паутине: цифровая дипломатия и новые возможности в науке и образовании // Российский совет по международным делам (РСМД). 2012. 17 февр. URL: http://russiancouncil.ru/ inner/?id_4=121#top-content (дата обращения 17.01.2017).
- Как новые медиа изменили журналистику. 2012-2016 / А. Амзин, А. Галустян, В. Гатов, М. Кастельс, Д. Кульчицкая, Н. Лосева, М. Паркс, С. Паранько, О. Силантьева, Б. ван дер Хаак; под ред. С. Балмаевой, М. Лукиной. Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2016. 304 с.
- Карасик В. И. Языковое проявление личности: Монография. Волгоград: Парадигма, 2014. 450 с.
- Клюев Е. В. Речевая коммуникация: Учеб. пособие. М.: Рипол Классик, 2002. 320 с.
- Котов А. А. Теоретические основания для определения речевого средства воздействия // Юрислингвистика 2004: Юридические аспекты языка и лингвистические аспекты права. Барнаул, 2004а. URL: http://siberiaexpert.com/load/nomera_zhurnalov/1-1-0-11
- Котов А. А. Механизмы речевого воздействия в публицистических текстах. 2004б. URL: http://www.harpia.ru/d-scripts.html (дата обращения 17.01.2017)
- Краткий психологический словарь / Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. 2-е изд. Ростов н/Д: Феникс, 1998. 494 с.
- Кузьмин Э. Л. Протокол и этикет дипломатического и делового общения. 1996. URL: http://www.e-reading.club/book.php?book=129013 (дата обращения 17.01.2017).
- Попов В. И. Современная дипломатия: теория и практика: Курс лекций. М.: Науч. кн., 2000. Ч. 1: Дипломатия - наука и искусство. 576 с.
- Стернин И. А. Основы речевого воздействия: Учеб. изд. Воронеж: Истоки, 2012. 178 с.