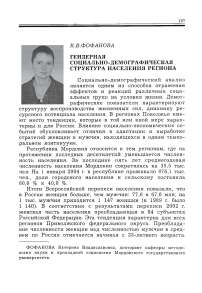Тендерная социально-демографическая структура населения региона
Автор: Фофанова Катерина Владиславовна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Социология региона
Статья в выпуске: 4 (53), 2005 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу гендерных аспектов социально-демографической ситуации в Мордовии. Выделено несколько причин гендерных диспропорций.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222193
IDR: 147222193
Текст научной статьи Тендерная социально-демографическая структура населения региона
Социально-демографический анализ является одним из способов отражения эффектов и реакций различных социальных групп на условия жизни. Демографические показатели характеризуют структуру воспроизводства жизненных сил, динамику ресурсного потенциала населения. В регионах Поволжья имеют место тенденции, которые в той или иной мере характерны и для России. Влияние социально-экономических событий обусловливает отличия в адаптации и выработке стратегий женщин и мужчин, находящихся в одном темпоральном континууме.
Республика Мордовия относится к тем регионам, где на протяжении последних десятилетий уменьшается численность населения. За последние пять лет среднегодовая численность населения Мордовии сократилась на 35,5 тыс. чел. На 1 января 2004 г. в республике проживало 876,1 тыс. чел., доля городского населения к сельскому составила 60,0 % к 40,0 %.
Итоги Всероссийской переписи населения показали, что в России женщин больше, чем мужчин: 77,6 к 67,6 млн; на 1 тыс. мужчин приходится 1 147 женщин (в 1989 г. было 1 140). В соответствии с результатами переписи 2002 г. женская часть населения преобладающая в 84 субъектах Российской Федерации. Эта тенденция характерна для всех регионов Приволжского федерального округа. Преобладание численности женщин над численностью мужчин в среднем по России отмечается начиная с 33-летнего возраста.
ФОФАНОВА Катерина Владиславовна, докторант кафедры методологии науки и прикладной социологии Мордовского государственного университета.
В возрастной группе с 55 лет доля женщин составляет 22 % к 10 % мужчин этого же возраста. На 1 тыс. мужчин в возрастной группе 50—54 года в 2004 г. приходится 1 130 женщин, в группе 55—59 лет — 1265, в группе 60—64 года — 1 479, в группе 65—69 — 1 627, 70 лет и более — 2 9091 В сельской местности в последней группе наблюдается еще больший разрыв: 40 % женщин к 15 % мужчин.
Как и для большинства европейских стран, для России характерна тенденция старения населения. По сравнению с переписью 1989 г., средний возраст жителей страны увеличился на 3 года и составил 37,7 лет. Эта тенденция характерна и для Мордовии: средний возраст женщин составил 41,2 года и 35,9 лет для мужчин. Отмечена тенденция увеличения ожидаемой продолжительности жизни женщин, что нехарактерно для мужчин. Эти социальнодемографические данные указывают на важную демографическую составляющую — феминизацию старения. Можно предположить, что это вызовет изменения в биографической структуре и жизненном плане женщин. Учет подобных изменений в перспективе может стать ключевым при разработке технологий и мер социальной политики, что потребует пересмотра ряда социальных стандартов и нормативов в сфере пенсионного, трудового, семейного законодательства. Стратегией демпфирования (смягчения) негативных эффектов от половозрастных диспропорций в когорте пожилых людей должно стать усиление медикосоциального и социально-психологического направлений, снижающих депривационные последствия одиночества в пожилом возрасте. По данным Всероссийской переписи, в Республике Мордовия на 1 тыс. женщин в возрасте 60— 64 лет приходится 345 вдов, в возрасте 65—69 лет — 445, в возрасте 70 лет и более — 647. В то время как на 1 тыс. мужчин данных возрастных групп приходится соответственно: 77; 117; 261 вдовцов2
Социально-экономические изменения 80—90-х гг. XX в. ускорили далеко не позитивные процессы брачности и разводимости. Снижение числа браков наблюдается из года в год, хотя данные 2003—2004 гг. внушают определенный оптимизм. Коэффициент брачности в Мордовии остается сравнительно высоким среди всех регионов Приволжского округа. Число супружеских пар в республике, по данным переписи 2002 г., составило 217 тыс., что на 17 тыс. меньше, чем по данным предыдущей переписи. Как и в переписи 1989 г., замужних женщин оказалось больше, чем женатых мужчин (в среднем по России в 2002 г. — на 65 тыс. чел., в 1989 — на 28 тыс. чел.). Вместе с тем формируется тенденция незарегистрированных брачных союзов, что ведет к увеличению числа детей, рожденных вне зарегистрированного брака. За 1989—2002 гг. доля таких детей увеличилась в 2,6 раза и составила 20 % от общего числа ежегодных рождений в республике (41 % из них зарегистрированы по совместному заявлению родителей).
В сравнении с мужчинами женщины чаще имеют статус разведенных и вдовых, что связано с низкой продолжительностью жизни мужчин. С 1991 г. увеличивается процент распада семей. Если количество зарегистрированных браков снизилось с 1990 по 2000 гг. в 1,2 раза, то число разводов за этот же период выросло в 1,1 раза. В Мордовии в 1992 г. на 1 тыс. населения приходилось 8,8 брака; в 2001—2002 гг. — 6,2, в 2003 — 7,1. В период 1989 — 2002 гг. в республике ежегодно расторгалось 4—5 тыс. браков (в 1989 г. — 2,4 тыс.), в результате 3—4 тыс. несовершеннолетних детей остались без одного из родителей. Учитывая меньшие возможности женщин на рынке труда, тем более в условиях, когда семейную и трудовую нагрузку трудно перераспределить между другими членами семьи, материнские неполные семьи вносят существенный вклад в процесс феминизации бедности. Домохозяйства, возглавляемые женщинами, чаще оказываются уязвимыми из-за слабых позиций на рынке труда. Эскалация негативных социально-экономических эффектов сказывается на брачном поведении, проявляющемся в увеличении сложных видов семей.
Динамика возраста рождения первого ребенка отражает увеличение возраста вступления в первый брак. Важное изменение связано с сужением возрастных границ деторождения, что особо отличает последнее десятилетие. Самый высокий возрастной коэффициент рождаемости в Мордовии в 2003 г. приходился на возраст 0—24 года — 93
и практически заканчивался в возрастной группе 30—34 года — 37.
К числу основных изменений в демографической структуре семьи относится уменьшение среднего числа детей в семье. В Республике Мордовия, как в целом и по России, преобладают семьи с 1—2 детьми. Ситуация с рождаемостью отражает происшедшие перемены в репродуктивном поведении российского населения. А.Е.Суринов отмечает, что «еще на рубеже 1980—1990-х гг., при общей тенденции к снижению уровня рождаемости, в репродуктивных ориентациях населения двухдетная модель семьи превалировала над однодетной, о чем свидетельствует и значение показателя суммарной рождаемости — около двух детей в среднем на одну женщину. В последующие годы происходило значительное снижение рождаемости, и в настоящее время суммарный показатель рождаемости практически вдвое ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населения (2,14—2,15 родившихся детей в среднем на одну женщину в течение жизни)»3 Размер семьи городских и сельских жителей почти одинаков. Суммарный коэффициент рождаемости в 2003 г. составил 1,16 (среди городского населения 1,1 и 1,3 среди сельского). По прогнозам, к 2020 г. он будет составлять 1,12. В Мордовии с 1989 по 1990 гг. сокращение рождаемости приобрело устойчивый характер. В 1989 г. суммарный коэффициент рождаемости составлял 1,91, спустя 12 лет этот показатель стал в 1,5 раза меньше. Показатели рождаемости и браков в Приволжском федеральном округе отражают мировую тенденцию к малодетности, воспитанию и рождению одного ребенка, репрезентируют статистическую корреляцию — «чем старше популяция по среднему возрасту, тем выше процент городского населения (агломерация), тем ниже рождаемость, брачность, выше процент разводов, возраст вступления в брак и появления первого ребенка»4.
Официальная версия российской социальной политики, закрепленная в программах и национальных концепциях, реализуемая в условиях данных тенденций, ориентирована на сохранение семьи и поднятие уровня рождаемости. Внешняя направленность социальной политики выстраивается в соответствии с прагматическими целями, но при этом не учитывает изменений в сфере гендерных отношений.
В основе социальных решений, предложенных на федеральном и региональном уровнях в рамках семейной политики, заложена гуманитарная идея повышения жизненных стандартов семьи и сохранения традиционного разделения труда между супругами. Однако практика воспроизводит обратные эффекты, выражающиеся в падении рождаемости, увеличении рождения детей вне брака, сокращении числа законных браков. Ключевым препятствием является игнорирование происходящих изменений в качестве и структуре гендерных отношений, которые сказываются на установках в отношении рождаемости и брачности как процесса, зависящего от индивидуальных решений женщин и мужчин. Наполнение гендерных отношений установками на самоактуализацию и самореализацию, новым «культурным содержанием» приводит к размыванию устоявшихся стереотипов и легитимно фиксируемых гендерных траекторий. Совершенно справедливо подмечает М.М.Малышева, что «вычленяя из жизни людей репродуктивного возраста фертильный период как нечто инструментально управляемое, разработчики социальной политики не смогли понять его «вкрапленности» в другие пласты жизни»5
Социально-демографическое развитие региона зависит от уровня здоровья. Его показатели включаются в индекс развития человеческого потенциала. Одним из интегральных показателей здоровья является ожидаемая продолжительность жизни населения. В России в последние десятилетия сложилось существенное гендерное неравенство по этому показателю. Увеличение смертности в большей степени затронуло мужчин среднего возраста по сравнению с женщинами и традиционно уязвимыми категориями населения, такими, как дети и пожилые люди. Показатель смертности мужчин в трудоспособном возрасте в Мордовии — 23 % от числа умерших. Согласно прогнозу, в России ожидаемая продолжительность жизни и в последующие десятилетия будет снижаться среди населения мужского пола. В Мордовии в 1994 г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин 60 лет, у женщин — 73 года. Этот же уровень повторился в 2000 г. В 2001 г. он несколько повысился и составил 75 лет для женщин, проживающих в городе, 74 года — для проживающих в сельской местности, 61 год — для мужчин, про- живающих в городе, и 60 — в сельской местности0 При сохранении сложившегося половозрастного уровня смертности 40 % современных юношей, достигших 16 лет, не доживут до 60 лет. В 2003 г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении в среднем по республике у мужчин составила 59,9 лет, у женщин — 73,4 года. Тогда как биологически объясняемый разрыв в пользу женщин составляет около 5 лет. Столь существенные различия в продолжительности жизни женщин и мужчин усиливают гендерный разрыв, складывающийся в диспропорции уровня старения: доля мужчин в возрасте 60 лет и старше составляет 12 %, доля женщин той же возрастной группы — 21 %.
Чаще всего причиной смерти мужчин выступают сердечно-сосудистые болезни, заболевания системы кровообращения, несчастные случаи, в то время как причины смертности женщин — аутоиммунные и скелетно-мышечные болезни, а также депрессии. В мировой практике 1-е место среди причин смертности занимают болезни кровообращения (гипертоническая, ишемическая и т.д.), а на 2-м — новообразования. Это было характерно для России до 1993 г. Последнее десятилетие создало не имеющую аналогов структуру причин смертности, при которой на 2-е место после традиционных для всех развитых стран сердечно-сосудистых заболеваний и от новообразований «вышла смертность от несчастных случаев, насильственных причин смерти мужчин»7. При современном уровне развития медицинских технологий и способов организации жизненного пространства продолжительность жизни зависит в первую очередь от поведенческих факторов и стиля жизни.
Данные по Республике Мордовия соответствуют общероссийской тенденции. Количество несчастных случаев, отравлений и травм среди мужчин в 4,7 раза выше по сравнению с женщинами. Большой разрыв (в 2,9 раза) между женщинами и мужчинами наблюдается по классу болезней органов дыхания. Одной из причин этому — курение, которое, несмотря на его рост среди женщин, более свойственно мужчинам.
В тоже время ряд причин высокой смертности мужчин социально контролируемы и управляемы, что позволяет делать их объектом политики и рассматривать как устранимые. Среди таких причин следует выделить в первую очередь заболевание туберкулезом и производственный травматизм. В силу масштабности пенитенциарной системы в Мордовии туберкулез занимает одно из лидирующих мест среди медико-социальных рисков. Гендерные диспропорции складываются за счет того, что большую часть заключенных и осужденных составляют мужчины, к данной категории «социального риска» следует отнести группы социального дна (бомжи, бродяги), среди которых распространение туберкулеза не встречает серьезного сопротивления.
Высокая смертность мужчин — результат комплексного воздействия ряда причин. В том числе различных социальных ролей, выполняемых женщинами и мужчинами, разной подверженности стрессу под воздействием экономических, социальных и политических факторов. Активное вовлечение мужчин в политическую и экономическую сферу оборачивается тем, что они в большей степени принимают на себя риски, связанные с деятельностью в этих сферах. Гендерная сегрегация на рынке труда также способствует тому, что мужчины выполняют те виды работ, которые несут высокий риск травматизма, смертности (армия, правоохранительные органы, водители, шахтеры и т.д.).
В большинстве стран мира продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин, находящихся в одинаковом социальном статусе. Однако различие географических условий и образа жизни женщин и мужчин не позволяет пользоваться сопоставлениями и сравнениями без оговорок. Качество здоровья, продолжительность жизни женщины и мужчины находятся в зависимости от территориальных и географических факторов. Эти условия нуждаются во внимательном рассмотрении в соответствии с задачами социальной политики по снижению уровня смертности населения и созданию предпосылок стабилизации показателей рождаемости. Концептуально фиксируемое единообразие в вопросах улучшения качества жизни россиян упирается в непреодолимый организационными средствами фактор — различие условий жизни города и села.
Таким образом, складывается сложная социальная картина гендерного неравенства. Мужчины живут с экономической точки зрения лучше, но значительно меньше. Женщины, наоборот, живут дольше, но уровень жизни, возможности реализации потребностей, влияющие на качество жизни, ниже. Структура социальных выигрышей и потерь оказывается зеркально симметричной по гендерным группам. Это не позволяет говорить об однозначных преимуществах положения какой-либо гендерной группы.
В современных условиях социальная политика должна оперировать показателем продолжительности здоровой жизни как ингредиентом здоровья, которое в равной мере важно и для женщин, и для мужчин, но у мужчин негативные воздействия чаще ведут к смерти, а у женщин — только к потере здоровья8 Отсутствие превентивных социальных программ в сфере труда и занятости, экспертизы и контроля за условиями труда на производстве способствуют сохранению сверхвысокой смертности мужчин в трудоспособных возрастах и приводит к отрицательным последствиям для женщин. Сверхвысокая смертность мужчин увеличивает вероятность вдовства, сужает возможность повторных браков, способствует образованию неполных материнских семей. Неблагоприятное социально-экономическое положение женщин оказывается следствием низкого качества здоровья мужчин.
В настоящее время в мире существуют различные модели формирования навыков здорового образа жизни, преждевременного выявления и раннего предупреждения ситуаций риска. Процесс усовершенствования демографического поведения в целом возможен за счет выработки навыков самосохранительного поведения, способов приспособления, адаптации к окружающей среде.
Список литературы Тендерная социально-демографическая структура населения региона
- Женщины и мужчины Республики Мордовия: краткий стат. сборник. Саранск, 2004. № 902. С. 13.
- Там же. С. 21-22.
- Суринов А.Е. Социально-экономическая ситуация в 1992-2000 гг.: воздействие на население//Мир России. 2001. № 2. С. 30.
- Акопян А.С. Демография и политика//Общественные науки и современность. 2001. № 2. С. 42.
- Малышева М.М. Современный патриархат. Социально-экон. эссе. М., 2001. С. 211.
- Женщины и мужчины Республики Мордовия: краткий стат. сборник. Саранск, 2002. С. 12.
- Меле Ф., Школьников В., Хертрши В., Вален Э. От чего умирают в России и во Франции//Мир России. 1997. № 4. С. 13.
- Андреев Е.М., Школьников В.М., Макки М. Продолжительность здоровой жизни//Вопр. статистики. 2002. № 11. С. 16-21.