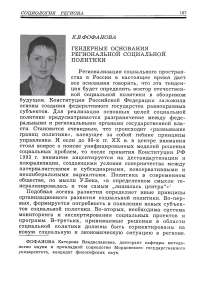Тендерные основания региональной социальной политики
Автор: Фофанова Катерина Владиславовна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Социология региона
Статья в выпуске: 2 (51), 2005 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается необходимость учета гендерных аспектов при формировании региональной социальной политики.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222163
IDR: 147222163
Текст научной статьи Тендерные основания региональной социальной политики
ГЕНДЕРНЫЕ ОСНОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Регионализация социального пространства в России в настоящее время дает все основания говорить, что эта тенденция будет определять вектор отечественной социальной политики в обозримом будущем. Конституция Российской Федерации заложила основы создания федеративного государства равноправных субъектов. Для реализации основных целей социальной политики предусматривается разграничение между федеральными и региональными органами государственной власти. Становится очевидным, что происходит «размывание границ политики», влекущее за собой гибкие принципы управления. И если до 90-х гг. XX в. в центре внимания стоял вопрос о поиске унифицированных моделей решения социальных проблем, то после принятия Конституции РФ 1993 г. внимание акцентируется на дестандартизации и плюрализации, создающими условия соперничества между патерналистскими и субсидиарными, консервативными и неолиберальными вариантами. Политика в современном обществе, по мысли У.Бека, «в определенном смысле генерализировалась и тем самым „лишилась центра"»1
Подобная логика развития определяет иные принципы организационного развития социальной политики. Во-первых, формируется потребность в появлении новых субъектов социальной политики. Во-вторых, необходима система мониторинга и экспертирования социальных проектов и программ. В-третьих, принимаемые решения в области социальной политики должны быть сориентированы на новую соци альную и экономическую ситуацию в регионе.
ФОФАНОВА Катерина Владиславовна, докторант кафедры методологии науки и прикладной социологии Мордовского государственного университета, кандидат философских наук.
При этом региональный подход повлек за собой изменения в композиции социальных институтов, формах и механизмах принятия решений, способах легитимности социального выбора, проявляя тем самым свои специфические свойства и качества. Одной из инноваций в области социальной политики, реализованной на уровне регионов Поволжья, является принятие советом Ассоциации «Большая Волга» (25 марта 1999 г.) решения об организации Комитета по социальной политике. Посредством этого комитета планировалось в регионах ассоциации создать условия, чтобы экономика стала социально ориентированной, а социальная политика — приоритетной. Основной задачей комитета стало укрепление механизмов региональной социальной политики и принципов адресности и субсидиарности.
Система социальной политики в регионах представляет собой комплекс политико-правовых и организационно-управленческих решений, конкретных действий государственной власти и общественности, направленных на соблюдение важнейших социальных прав мужчин и женщин. Проведенный учеными ИСПИ РАН экспертный опрос в 10 регионах РФ зафиксировал, что сегодня государство не обеспечивает должным образом «равенство всех граждан перед законом» — 78 % мужчин и 94 % женщин, «личную безопасность» — 78 и 93 %, «соблюдение прав человека» — 82 и 88 %, «социальные гарантии» — 78 и 92 % соответственно2 Рассматривая эти результаты опроса с точки зрения оценки базовых гарантий социальной политики, следует обратить внимание и на то, что, по данным проведенного нами в 2004 г. исследования «Права и возможности мужчины и женщины в Республике Мордовия», наибольшее количество респондентов самыми важными назвали социальные гарантии, а не демократически-пра-вовые. Показательно, что наиболее предпочтительны права, связанные с удовлетворением потребности в безопасности, образовании и здравоохранении. При этом данные права стабильно разделяют мужчины и женщины, жители города и села, люди с различным уровнем образования. Тот факт, что большая часть опрошенных считает, что не соблюдаются их права на жизнь и безопасность (28,9 %
Гендерные основания регионально ^ -сальной политики 109 мужчин и 27,9 % женщин), на бесплатное образование и здравоохранение (57,9 и 58,9 % соответственно), жилище (24,7 и 20,5 % соответственно), гарантированный прожиточный минимум (28,5 и 35,3 % соответственно), является, по нашему мнению, одним из факторов социальной нестабильности в республике.
Вопросы адекватности социальной политики, возможности эффективного решения социальных проблем во многом определяются не экономическими ресурсами, а верно выбранными стратегиями, отвечающими потребностям и требованиям различных социальных групп, определяющих цели региональной социальной политики. На вопрос «Как государство относится к проблемам мужчин и женщин?» 50 % мужчин ответили, что проблемам мужчин социальная политика в лице государства совсем не уделяет внимания, этого же мнения придерживаются 39,2 % женщин. 27,2 % мужчин считают, что затрагиваются совсем не те проблемы, которые важны для мужчин. Что касается проблем женщин, то 41,5 % опрошенных женщин и 27,2 % мужчин считают, что затрагиваются не те проблемы, которые важны для женщин. 24,6 % респондентов-мужчин ответили, что затрагиваются только проблемы женщины-матери, с этим согласились 13,1 % женщин. Данные экспертного опроса, проведенного в сентябре 2003 г. в г. Саратове и г. Саранске, посвященного проблеме включения мужчины и женщины в систему социальной защиты, доказывают, что в процессе работы они руководствуются традиционными методами и технологиями социальной работы, исключающими из поля зрения мужчин, когда решаются проблемы семьи и воспитания детей, считая, что женщина лучше знает проблемы семьи, и проблем у нее больше, чем у мужчины. Таким образов, сфера социальной защиты и социальной работы оформилась как «агрегат», поддерживающий традиционные полоролевые установки и гендерные стереотипы в отношении профессиональной субкультуры и технологий помощи и защиты. Неудивительно, что в Таком контексте потенциал социальной защиты и социальной работы стал восприниматься людьми уже не как факт профессиональных услуг и помощи, инициирующий политику прав человека, защиты личное- ти, обеспечение необходимых для жизни социально-экономических стандартов.
Проблематика региональной социальной политики охватывает широкий спектр вопросов. Параллельно с развитием профессиональной социальной работы как института гражданского общества стали развиваться в регионах и другие субъекты социальной политики. Инновационный потенциал гармонизации социальных условий жизни мужчин и женщин стал аккумулироваться в рамках новых гражданских институтов. По прогнозам М.Кастельса, «социальное изменение в России зависит от формирования гражданского общества, порождаемого новыми социальными движениями»3 В соответствии с этой тенденцией качественно меняется институциональный дизайн региональной социальной политики. Так, в ряде регионов Поволжья, например, в Республике Татарстан действует более 100 некоммерческих женских организаций, в Самаре — более 40. Мордовия отстает по этому показателю от других регионов Поволжья, но в республике действуют Союз женщин Мордовии, Союз многодетных матерей, Комитет солдатских матерей, ассоциации мокшанских и эрзянских женщин «Юрхтава», «Литова». В Республике Татарстан создана сеть общественных женских организаций: Лига деловых женщин, Казанский женский кризисный центр «Фатима», Комитет солдатских матерей РТ, ассоциация татарских женщин «Ак калфак», Союз женщин РТ, Женщины Татарстана. В Саратове действует еврейский центр «Хасдей Иерушалаим», оказывающий помощь пожилым женщинам, находящимся за чертой бедности. В Набережных Челнах 10 лет работает общественная организация «Фемина», деятельность которой известна всей России. Основными направлениями деятельности этой организации являются профилактика домашнего насилия, бедности, защита репродуктивных прав, отстаивание интересов гендерно чувствительной политики в отношении молодежи. Активно в регионах развиваются общественные организации, направленные на поддержку малого бизнеса, открываются академии женского предпринимательства, где женщины могут пройти переобучение, получить новые специальности. Силами активистов была создана Ассоциация кризисных центров «Остановим насилие», в которую вошли кризисные центры «Я — Женщина» (г. Саратов), «Защита женщин» (г. Воронеж), «Дана» (г. Нижний Тагил), «Фатима» (г. Казань), «Теплый дом» (г. Ижевск). Эти организации стали своего рода «полигоном» обкатки новых технологий, социально значимых общественных инициатив, с одной стороны, а с другой — модераторами дискуссий в регионах по социально значимым проблемам.
Сильными сторонами общественных организаций являются высокая мотивация, инициативность людей, работающих в них; выраженный эффект самопомощи и эффективности благодаря личной заинтересованности; проявление «гибкого» профессионализма, творческое решение вопросов, оперативная деятельность; направленность на решение региональных проблем.
К слабым сторонам общественных организаций следует отнести недостаточную их поддержку руководством регионов; минимальное финансирование; нестабильность их деятельности и взаимосвязей; низкий уровень доверия населения к таким организациям.
Аксиоматично сейчас звучит утверждение о том, что унитарное социальное пространство, обезличенное едиными технологиями и методами, должно остаться в прошлом. Формирование новой сферы социальной активности требует гибкого реагирования и внесения в законодательство необходимых изменений. Однако социальная политика, ориентированная на гендерную стратегию развития, реконструируется в основном вокруг горизонтальных связей, выходящих время от времени на уровень законодательной и исполнительной власти посредством социального партнерства. Например, в Республике Татарстан, Саратовской, Самарской областях государственными структурами применяются стратегии, предполагающие ответственность органов государственной и муниципальной власти за реализацию гендерной политики совместно с институтами гражданского общества, что предусматривается Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». Так, в Самарской области реализуется концепция «Развитие партнерства органов государственной власти и негосударственных некоммерческих организаций
Самарской области в интересах построения гражданского общества», но цепочка взаимодействия еще не создана. Для подавляющего большинства населения доступ к предлагаемым социальным сервисам остается ограниченным, так как существующих организаций явно недостаточно даже для городского населения, не говоря уже о сельском. Опыт ряда субъектов РФ (Татарстана, Самарской, Саратовской, Нижегородской областей) показывает, что наиболее перспективным для нововведений является программно-целевой подход, выражающийся в комплексных целевых программах социального развития. Его основное достоинство заключается в построении целостной системы «цели — средства — ресурсы — мероприятия — показатели». Он предполагает развитие системы ежегодных государственных социальных заказов в сфере региональной политики, где заказчиками выступают министерства и управления социальной защиты, комитеты по труду, здравоохранению и т.д., которые распределяются на открытой конкурсной основе по итогам экспертизы. Подобная технология позволяет выбрать наиболее продуктивный ресурс, действующий в рамках региона.
Есть все основания полагать, что общественные инициативы будут способствовать усилению контроля над принимаемыми решениями, имеющими непосредственное влияние на жизнь мужчин и женщин, участвовать в формировании гендерно чувствительной социальной политики. Очевидно, что деятельность общественных организаций в регионах способствует тому, что социально-политический процесс становится более прозрачным за счет использования механизмов независимой экспертизы, широкого обсуждения в региональных СМИ положения мужчин и женщин в области труда и занятости, здравоохранения и образования. Это отвечает требованиям Совета Федераций, рекомендовавшего, в частности, органам государственной власти регионов, входящих в Ассоциацию «Большая Волга», проводить социальную, демографическую и гендерную экспертизы экономических проектов, принимаемых нормативных актов и программ4 Так, в рамках данного требования в г. Самаре была создана Комиссия по гендерной политике. В Республике Татарстан стала ежегодной прак- тика подготовки Независимого доклада о положении женщин. В апреле 2003 г. в Мордовии состоялось очередное заседание комитета по социальной политике Ассоциации «Большая Волга», объединяющей органы законодательной и исполнительной власти 12 регионов Поволжья. Темой обсуждения стала государственная семейная и гендерная политика в Поволжье. На заседании была отмечена исключительная важность проведения в регионах целенаправленных мер по государственной поддержке семьи и вовлечению женщин в активную политическую и экономическую жизнь. По итогам работы комитет принял решение рекомендовать органам государственной власти регионов осуществить комплекс мер в сфере социальной политики, в частности, по совершенствованию нормативно-правовой базы социальной поддержки семьи, развитию системы социальной помощи семье, формированию механизма продвижения женщин в систему государственной власти и управления.
Складывается практика принятия региональных нормативных документов по социальным вопросам и контролю над их имплементацией в региональном законодательстве, разработке и осуществлению программ, финансируемых из местного бюджета или за счет грантовских средств. Так, постановлением администрации Новгородской области утверждена областная Программа по улучшению положения женщин на 2003—2006 гг. Ее целями и задачами являются совершенствование системы мер по социальной и правовой защите, улучшению положения женщин, повышению их роли в обществе. В связи с этим реализуются областные программы «Здоровая мать — здоровый ребенок», «Дети Новгородчины», «Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения» и др. В Чувашии в рамках республиканских целевых программ «Дети Чувашии», «Семья» создан Кризисный центр для женщин. Однако актуализирующийся дискурс в отношении реализации гендерной стратегии в социальной политике часто проходит в контексте традиционного восприятия проблем семьи, материнства и детства, исключающего роль отцовства в воспитании детей, поддерживающего полоролевые стереотипы.
В целом проблематизация гендерной стратегии, ведущая к обновлению социальной политики, в решающей степени задается деятельностью общественных организаций и гражданских инициатив. В связи с этим современная региональная социальная политика начинает приобретать черты, характеризующие ее как самоорганизующую политику, выступающую в качестве оперативного, но несистемного способа реагирования на проблемные ситуации. Новые субъекты социальной политики свидетельствуют о децентрализации и изменении границ вмешательства государства в социальные вопросы. Региональный вектор, детерминирующий плюрализм и свободу выбора, показывает неспособность централизованных методов поддерживать баланс между правами и возможностями различных социальных групп. И дело не в том, что прежние технологии социальной политики неверны, а в их несоответствии современности, качественно изменившимся потребностям человека.
Важнейшим направлением региональной социальной политики является координация усилий государственных и общественных структур по созданию системы социального партнерства, способной отделить побочные эффекты от результатов. При этом приоритетами региональной социальной политики выступают гибкий механизм социальной защиты, скоординированная деятельность органов государственной власти и субъектов социальной политики, обеспечение социальных гарантий и прав. Социальное благополучие в регионе во многом зависит от характера гендерных отношений. В свою очередь, они определяются сложным комплексом экономических, социальных, культурных условий региона. Региональный социум предлагает определенный выбор возможностей, однако он не всегда подкрепляется технологиями защиты, поддержки и развития. В связи с этим на уровне региона появляются большие возможности адекватного развития гендерных отношений, имеются условия оптимального согласования интересов мужчины и женщины с интересами регионального социума. Процесс оптимизации гендерной стратегии в региональной социальной политике предполагает выполнение ряда условий: проведение анализа рынка социальных услуг и механизмов трансляции стереотипов поведения и жизненных стратегий, устойчивых форм организации социальной по- мощи и защиты, а также терминальных и инструментальных атрибутов социальной политики в трансформационный период регионального социума; использование адекватных региональной специфике зарубежных разработок и «точечного» российского опыта в области гендерной экспертизы.
Вопрос о разработке адекватных региональной специфике и эффективных в условиях модернизирующейся экономики моделей социальной политики необходимо рассматривать в контексте гипотетически возможных «сценариев» развития Поволжья на ближайшую перспективу. Мы полностью согласны с мнением С.И.Григорьева, который считает, что эта проблема может быть осмыслена на базе социологической концепции жизненных сил человека, опирающейся на системное видение региона как подсистемы внутригосударственных отношений, общества, социальных отношений государства. Первое, что в связи с этим следует отметить, — определяющая роль повышения жизненных сил человека для усиления влияния региона по защите своих интересов в стране. При этом жизненные силы человека понимаются как его способность к воспроизводству и совершенствованию своего бытия5. Активизация человеческих качеств и ценностей становится решающим фактором мобилизации населения в решении социальных проблем. Фактор децентрализации, использование активных стратегий, ориентированных на развитие, являются новым алгоритмом социальной трансформации регионального социума.
Анализ развития социальной политики в регионах Поволжья показывает, что, несмотря на рост гражданских инициатив, появление женских организаций и специальных социальных заказов, ни один из регионов не демонстрирует образцов и примеров устойчивого гендерного развития. Ответственность по проведению гендерных оснований социальной политики, как показал анализ, в регионах взяли на себя общественные организации и инициативы. Этот факт мы расцениваем как снижение патерналистской зависимости или, по терминологии Х.Сведнера, собственного «автопатронажа»6 Качественно изменяющиеся принципы социальной политики свидетельствуют о переходе от вектора «женщины в развитии» к «гендеру и развитию».
И независимо от того, как теоретически «номинировать» эту стратегию, нельзя не признать ее наличие и необходимость и переходить от дискуссий о ее существовании к выработке форм ее реализации.
Список литературы Тендерные основания региональной социальной политики
- Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну/Пер. с нем. В.Седельника и Н.Федоровой; Послесл. А.Филиппова. М., 2000. С. 342. 2
- Иванов В.Н. Федерализм и безопасность государства//Социол. исслед. 2004. № 6. С. 6.
- Кастелъс М., Кисилева Э. Россия и сетевое общество//Мир России. 2000. № 1. С. 50. *
- Приоритеты социальной политики в Поволжье//Аналит. вестн. Совета Федераций ФС РФ. 2001. № 21. С. 87. D
- Григорьев С.И. Взаимосвязь образования и социального развития регионов в современной России//Основная концепция и доктрина российского образования в XXI веке. СПб., 1996. С. 50. 8
- Сведнер X. Что такое социальное благосостояние?//Социальная политика в Швеции. М., 1999. С. 29.