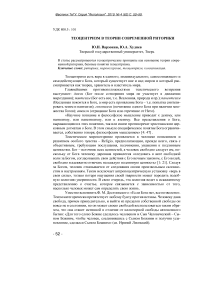Теоцентризм в теории современной риторики
Автор: Варзонин Юрий Николаевич, Худнев Юрий Алексеевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и истории языка
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются теоцентрические принципы как основание теории современной риторики, базовые понятия теоцентризма.
Риторика, мировоззрение, теоцентризм, коммуникация
Короткий адрес: https://sciup.org/146281539
IDR: 146281539 | УДК: 808.5
Текст научной статьи Теоцентризм в теории современной риторики
Теоцентризм есть вера в единого, индивидуального, самосознающего и самодействующего Бога, который существует вне и над миром и который рассматривается как творец, хранитель и властитель мира.
Главнейшими противоположностями теистического воззрения выступают: деизм (Бог после сотворения мира не участвует в движении мироздания); пантеизм (Бог есть все, т.е. Вселенная, природа и пр.); панентеизм (Вселенная покоится в Боге, а мир есть проявление Бога – т.е. попытка синтезировать теизм и пантеизм); генотеизм (почитание одного Бога при наличии множества богов); атеизм (отрицание Бога или отречение от Него).
«Научное познание и философское мышление приводят к деизму, или пантеизму, или панентеизму, или к атеизму. Все представления о Боге, выражающиеся в этих понятиях, так или иначе противоречат христианским церковным догматам о Боге. В этом смысле специфическое понятие Бога ограничивается, собственно говоря, философским мышлением» [4: 47] .
Теистическое мировоззрение проявляется в человеке появлением и развитием особого чувства – Religio, предполагающим, прежде всего, связь с объективным, требующим послушания, подчинения, уважения к подлинным ценностям. Бог – источник всех ценностей, а человек свободно следует им, поскольку от Бога человеку дарована привилегия «следовать в акте свободной воли за Богом, согласовывать свои действия с Его вечным законом, с Его волей, свободно и адекватно отвечать на каждую подлинную ценность» [1: 21]. Следуя за Богом, человек отказывается от следования своим произвольным склонностям и настроениям. Теизм исключает антропоцентрическую установку «верь в свои силы», только потеря ощущения своей тварности может породить подобную иллюзию уверенности. В свою очередь, эта иллюзия ведет к искаженному представлению о счастье, которое связывается с зависимостью от того, насколько человек может сам определять свою жизнь.
Уместно вспомнить Ф. М. Достоевского: «Если Бога нет, все позволено». Теизм категорически препятствует любому бунту против истины. Человеку дана свобода, причем принудительно, и выйти из пределов собственной свободы он вовсе не в состоянии, но он может своею свободой воспользоваться таким образом, что она станет истинной в отличие от иллюзорной свободы автономного бытия: «Для того слово Божие сделалось человеком и Сын Человеческий – Сыном Божиим, чтобы человек, соединившись с Сыном Божиим и получив усыновление, сделался Сыном Божиим» (св. Ириней Лионский).
Согласно теистическим представлениям, возрастание Бога в человеке, его богоподобие связано с осуществлением этических ценностей. Осуществление этических ценностей обозначает непрекращающийся выбор между добром и злом в пользу первого.
Религия представляет собой форму самосознания и самоопределения человека, возникающую в самом человеке как «живое сознание некоторой связи между ограниченным бытием человека и безусловным бытием Божества» [3: 377]). Такое сознание может выражаться жизнью человека в условиях живых отношений к бытию Бога, т.е. в ощущении постоянного присутствия Бога. Согласно теистическому воззрению, человек принадлежит одновременно двум мирам: в мире физическом он веществен и существует по законам физического мира; в мире идеальном человек сознает себя отражением Абсолютного бытия. Невозможность осуществления своей идеальной природы в условиях физического мира неизбежно ведет человека к идее богоподобия как истинной цели человеческой жизни.
Среди теистических мировоззренческих доктрин только христианство наполняет содержанием известное противоречие между физической и идеальной природой человека так, что оно становится оптимистичным и жизнеутверждающим, ибо достижение истинной цели жизни возможно. Для ее достижения не требуется отрицать существующую действительность, но единственным условием достижения истинной цели жизни человека является обретение сотрудничества с Богом, в результате которого открывается действительная возможность полного освобождения от рабского подчинения греху. Такое освобождение, равносильное спасению, заключается не в избежании наказания за грех, а в примирении с Богом: примириться значит перестать быть грешником. Но уничтожение греха человеком – дело совершенно невозможное. Сын Божий Иисус Христос, виновник самого существования мира, приняв крестную смерть, совершил искупительное спасение. С этого момента обратившийся к Христу человек совместной деятельностью Бога и человека освобождается от греха в силу принятия его на Себя Спасителем мира, поскольку всякий грех Он уничтожил на кресте.
Человек сотворен для вечной жизни, но наличная жизнь и грешника, и праведника одинаково не соответствует вечной цели Христа, и поэтому наличная жизнь непременно должна быть прекращена: силою воскресения Христа смерть действительно лишается своего «вечного бессмыслия». Спаситель тем самым нисколько не отменил неизбежной борьбы человека с грехом (злом), но Он сделал возможным победоносный исход этой борьбы. Совершенствуясь в борьбе со злом, человек отрешается от греха и примиряется с Богом, обоживается, т.е. осуществляет теосис.
Теистическое христианское мировоззрение согласовывается с единственной этической системой – христианской этикой. Центрообразующая идея доктрины – христианский теосис. Идея обожения человека не является одной из равнозначных идей совершенствования человека, а однозначно указывает высшую и единственную цель, относительно которой все другие могут быть только включенными. Так же дело обстоит с этическими ценностями: богопо-добие обретается человеком по мере осуществления этических ценностей, а вопрос о том, какая из ценностей должна быть осуществляема здесь и сейчас, имеет совершенно ясный ответ – выбор добра, но не зла. Как бы ни звалась конкретная ценность – будь то благоговение, или верность, или чувство ответственности, или правдивость, или доброта и т.д., – она включается во всеобъемлющую категорию «добро», многоликую и бесконечную. Ни в отношении цели, ни в отношении средств теоретически в христианской доктрине противоречие возникать не может. Это не следует автоматически переносить на человека, испо-ведывающего христианство; напротив, для искреннего христианина такая проблема возникает уже и в силу природного состояния повреждения первородным грехом, и постоянно осуществляемого им морального выбора, говорящего о том, что добро стоит усилий. Сказанное не только не опровергает доктрину, но и объясняет то самое человеческое несовершенство, которое так часто используется против христианства в целом. Однако величайшая любовь Бога к человеку проявляется в том, что дарованная ему свобода никогда не ставится под сомнение: если человек свободен, то это без всяких оговорок распространяется и на осуществление им этических ценностей, через которое человек совершенствуется, т.е. уподобляется Богу, Который – цель и причина всех творений.
Система христианской этики выстраивается на фундаменте нравственной свободы. Человек не безусловно подчинен определенным законам существования, становления и развития. Во власти человека изменять процесс своего развития. Человек сознательно и свободно делает нравственный выбор и созидается в процессе становления как совершенная личность. Свобода – самая глубокая основа личности, ее царственная привилегия, величие и достоинство.
Путь нравственного совершенствования человека есть взаимодействие благодати как Божественной энергии с энергией воли человека (синергия). Эта соработа не нарушает свободы воли. «Добрые дела, являющиеся следствием присутствия Святого Духа, являются совершенно добровольными. Будучи глубоко личностным, зароненным в душу, закон любви направляет человека таким образом, что цель действия воспринимается как порожденная самой любящей волей; этот закон делает душу в высшей степени свободной» [4: 177].
Понятие нравственного закона в христианской этике основывается на реальности естественного нравственного закона. В «Послании к Римлянам» апостол Павел говорит о вине всех людей перед Богом: люди не смогут оправдаться незнанием закона, ибо закон написан в сердце каждого человека. «Бог вложил в человека врожденный закон, который управляет человеком как капитан кораблем или извозчик лошадью» (св. Иоанн Златоуст). Однако как бы высоко ни ставился естественный нравственный закон, он указывает лишь на самый элементарный и обязательный для всех людей уровень нравственности.
В тесной связи с нравственным законом находится нравственное сознание. «Нравственное сознание возникает у человека из идеальной природы его личности. (...) Человек одновременно является и действительным образом Бога, и действительной вещью физического мира, а потому фактически осуществлять в своей жизни идею богоподобия он, очевидно, может не иначе, как только в непрерывной борьбе с собою самим, а так как эта борьба непрерывно говорит человеку о действительной принадлежности его физическому миру, то человек никогда бы не мог даже и подумать о том, чтобы вести эту борьбу, если бы в жизни по образу Божию он не сознавал истинной жизни и если бы это сознание не возлагало на него непременной обязанности стремиться к достижению богоподобной жизни как жизни истинной. Такая обязанность и действительно сознается каждым человеком, и ее-то именно сознание и предъявляется каждому человеку в идее нравственного закона жизни. Он и возникает из религиозного сознания человека, и все свое содержание получает только из этого сознания: нравственное, долженствующее быть осуществленным, истинное есть лишь богоподобное, так что идея богоподобия является единственным основоположением естественной морали, и единственным критерием всех действий человека в моральном отношении, и, наконец, единственным основанием для нравственного развития человека» [3: 378].
В объеме понятия нравственного сознания рассматриваются категории стыда, совести, долга, ответственности, стремления к добру.
В центре этической системы христианства находится принцип любви. Любовью не исчерпывается отношение человека к Богу. Человек находится в полной онтологической зависимости от Бога, и это делает Бога абсолютным объективным благом для него.
Для христианина всегда рядом идеальный образец его поведения, в том числе коммуникативного, в котором он признает в партнере по общению равное себе творение Божье, кое следует возлюбить, как самого себя; в том числе риторического, в котором он, воздействуя и взаимодействуя с партнером, должен отражать всесовершенство Творца. И в решении специфической задачи риторики высшим образцом человеку служит живой Христос, а даже величайшие риторы, как Демосфен или Цицерон, могут быть образцами лишь в той мере, в какой сами они запечатлели великолепие Бога, будучи Его же творениями.
Поскольку рассмотрение взаимодействия коммуникантов предполагает непосредственный контакт с человеческой личностью, заведомо не соответствующей идеальной модели общения (обладающей тем не менее высшей реальностью), при рассмотрении функционирования теоцентрический риторической модели есть основания, дабы снять возможный упрек в недейственности означенной модели, говорить об устремленности коммуниканта к воплощению данной идеальной модели, т.е. наличии у него такого рода интенциональной установки, реализующейся в коммуникации постоянно и исключительно искренне.
Структура акта коммуникации в условиях теоцентрический модели с точки зрения самих участников существенно отличается от соответствующей антропоцентрической перспективы наличием не только горизонтальной связи (это связь между партнерами по коммуникации), но и вертикальной (это связь между человеком и Богом, причем только в Боге участники взаимодействия действительно объединяются). В восприятии верующего человека никаких двух миров не существует, поскольку мир един. Следовательно, никакой самостоятельной антропоцентрической модели тоже существовать не может: без устремленности партнеров по общению к Богу модель никак не исключается, так как и в этом случае люди не перестают быть творениями Бога, но эта модель функционирует несовершенно, рассогласованно. Евангельские слова Иисуса «Где двое или трое собраны во имя Мое, так Я посреди них» (Мф. 18:20) не говорят об избирательности любви Бога к людям, ибо Он хочет, как известно, «чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4), но ясно подчеркивают важность устремленности участников общения к Богу для его успешного осуществления.
«Христианское учение о человеке исходит из представления о соработе (синергии) человеческих воли и разума с Божественной энергией. Согласно этому воззрению, благодать прививается к тому здравому и творческому, что сохранилось в природе человека, и высвобождает силы, которые подспудно в ней таились. Так происходит соработа человека и благодати, возникает синергия, направленная на исцеление и восполнение человеческой природы» [4: 178].
Естественно полагать, что синергия разрушается в тот момент, когда человек делает неправильный нравственный выбор (такой выбор действительно является неправильным, поскольку речь идет о поступке христианина, который в данном случае квалифицируется как грех; вопрос только в том, отдает ли себе человек уже сейчас отчет в том, что он совершает, либо это откроется ему впоследствии). Однако ответственность за свободу выбора в любом случае лежит на самом человеке. Совершая греховный поступок, человек разрушает энергетическую цельность акта взаимодействия, но это не может означать, что восстановление такой цельности уже невозможно, - напротив, смысл христианского спасения и заключается в свободном несении человеком бремени борьбы со злом, благо Боговоплощение сделало возможным для человека окончательную победу над злом. Сам собою человек и теперь этого сделать не может, но, желая одолеть зло, человек вправе надеяться на милость и помощь Спасителя, прибегает к ним и получает их.
Синергетическая цельность акта коммуникации не предполагает невозможной идентичности коммуникантов ни в отношении степени богопознания, ни степени раскаяния и очищения от зла, хотя первое и второе неразрывно связаны. Никаких личностных ограничений условия взаимодействия теоцентрический модели не подразумевают, ибо единственное ограничение - выбор между добром и злом в пользу добра, может исходить только изнутри человека согласно его свободной воле. Как нет равенства в бо-гопознании, так нет неравенства среди коммуникантов: это такой паритет, который безболезненно включает в себя различные возможные расхождения социального статуса участников общения, к примеру, таких, как «начальник и подчиненный». Включенность не подразумевает какую-нибудь нейтрализацию статуса или его игнорирование, а как раз предполагает строгое соответствие ожидаемым требованиям, только это соответствие нисколько не ставит под сомнение ни одну из этических ценностей, что в свою очередь означает, что сами этические ценности в совершенно равной степени объективны и актуальны и для начальника, и для подчиненного, т.е. они, возможно, проявят себя по-разному, но при этом будут совпадать по своей сути.
Полноценное и гармоничное функционирование модели общения совершенно удовлетворяет двум центральным заповедям христианства о любви к Богу и ближнему. Любовь здесь - не фон общения, а его условие.
Если обратить внимание на существенные признаки любви применительно к условиям человеческого общения, то легко заметить, что они могут проецироваться на коммуникативную деятельность как в целом, так и по отдельности, а, к примеру, такое свойство, как стремление к взаимности, выдает очевидную конструктивность любви для коммуникации. Понятно, что эти же самые свойства так же легко напоминают о том, что реальная коммуникация не очень убедительно свидетельствует о типичности названных свойств. Однако в данном контексте следует несовершенство реальной коммуникации понимать как действительный повод к ее качественному улучшению, т.е. понимать это в том смысле, что коммуникативная практика, желающая повысить свою эффективность, на самом деле знает, какой она в лучшем случае может стать.
Глубокое сущностное погружение в феномен любви не может не вызвать соответствующего влияния на построение риторической программы: во-первых, оно накладывает существенные ограничения на спектр возможных стратегий (к примеру, риторическая программа должна быть согласована таким образом, чтобы не нанести какого-либо вреда партнеру, однако и данная стратегия оказывается подчиненной, поскольку ненанесение ущерба партнеру должно строго соответствовать абсолютному благу, т.е. это не может быть добро в оценке партнера, так как подобная оценка допускает субъективную природу, которая может расходиться с объективным ее статусом); во-вторых, оно накладывает ограничения на выбор средств воплощения стратегий, поскольку определенные средства могут актуализировать трудно интерпретируемые ситуации и ставить партнера в неловкое, затруднительное положение. Сами по себе средства большей частью являются нейтральными, но среди них есть и такие, которые по разным причинам способны осложнять общение. Эти средства невозможно классифицировать, потому что преимущественно они характеризуют каждую пару коммуникантов в объеме их коммуникативного опыта. Как правило, люди лучше чувствуют, что уместно и неуместно, нежели обладают способностью объяснить, почему это происходит. Любя другого человека, мы наверняка не желаем создавать ему дополнительные трудности, а, напротив, стремимся сделать возможное для того, чтобы их устранить. Следуя этому стремлению, коммуниканты непременно найдут способы облечь свои благовидные намерения в пристойные и ясные формы, благо коммуниканты не на себя надеются, но на милость и помощь Божью.
Вполне уместно предположить, что риторическую систему действительно возможно построить, поместив в ее центр категорию любви, - похоже, против такой риторики никто бы и не стал возражать. Однако потребуется в любом случае выяснять, что за любовь имеется в виду, а в виду имеется любовь христианская. Получится, что согласиться на любовь равнозначно принятию христианства, а заменить ее собственным представлением о любви - значит отречься от любви христианской, поскольку она подразумевает только самое себя. Это та любовь, о которой говорит апостол Павел: «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Любовь не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13).
Риторическая модель в христианском теоцентризме обретает видимую определенность: здесь ясно, из каких элементов складывается христианское мировоззрение, как определяет абсолютное благо христианская этика, как первое и второе проецируются на коммуникативную деятельность. Если иметь в виду разную ступень богопознания, на которой находятся коммуниканты, то по су- ществу в коммуникации могут естественно возникать затруднения. Особенность таких ситуаций заключается в том, что несовпадающие позиции не «соперничают» друг с другом, поскольку они соотносятся с одним и тем же источником, будь то элемент христианской этической системы или элемент христианского мировоззрения. У коммуникантов всегда «под рукой» возможность выяснения или прояснения того или иного положения, вызывающего несовпадающую интерпретацию.
Важнейшее свойство - отсутствие необходимости убеждать партнера в собственной правоте, так как эта правота не может быть личной. Это в конечном счете истина христианства, и только в этом смысле она способна быть истиной христианина. Существование христианства - бесспорный факт, и для миллионов людей жизнь действительно освещается светом Христа. Делать вид, что этого нет, - значит обманывать себя, ну а если быть честным с собой, то факт существования христиан-партнеров по коммуникации требует не только терпения, но и уважения со всеми вытекающими последствиями.
Такое пожелание обосновывается не чисто эмоциональной причиной, поскольку оно фактически открывает путь к рационализации и, соответственно, эффективизации взаимодействия для коммуниканта, не реализующего теоцентрическую модель. Дело в том, что в его «понимании» процесс общения выглядит принципиально иначе организованным, - для него, возможно, взаимодействуют только два автономных бытия, вольных самостоятельно формулировать «правила игры». В это же самое время, если партнером оказывается верующий коммуникант, для последнего все происходит иначе: для него реализуются условия теоцентрического общения, в которых неверующий партнер остается равным своему верующему коллеге-коммуниканту. Вероятно, в данном случае существуют объективные предпосылки снижения эффективности взаимодействия, поскольку они заведомо препятствуют успешному функционированию модели. Однако они не только не отменяют саму модель, но и нисколько не ставят ее под сомнение. Разумеется, при такой диспозиции оптимальным путем поиска повысить эффективность общения однозначно является принятие модели в целом. Проблемой остается неизбежность, которая обеспечивает принятие теоцентрической модели, - это неизбежность осознать заново самое себя по отношению к миру.
Теоцентрическая модель позволяет выявить многочисленные «темные» места человеческого общения, по крайней мере в отношении их природы, и убедиться в том, что такие места, как правило, являются исчисляемыми, если принять во внимание естественную связь мировоззрения человека, воплощаемой им и согласованной с мировоззрением этической системы и коммуникативной деятельности. Во всяком случае, описываемая идеальная модель обладает реальностью для каждого конкретного акта коммуникации с той, однако, разницей, что реальное развитие взаимодействия либо приближается к образцу, либо удаляется от него.
Эта модель не рассматривает коммуникативную деятельность индивида как особое и эпизодическое проявление его жизнедеятельности, но опирается на полноценную и многогранную жизнедеятельность человека в целом: коммуникация в таком виде предстает не как изолированный феномен, но как составляющая характеристика более значимого феномена - личности. Именно по этой причине осознаваемая личностью задача оптимизации общения требует комплексного решения, предполагающего личностное совершенствование. Совершенствование личности закономерно выводит человека в сферу этики, этических ценностей, а они, в свою очередь, оказываются нерешаемым вопросом без обращения к основополагающим проблемам философии бытия. Названный путь – путь от практической коммуникации к теоретическим основам общения. Возможен и обратный путь, благо в обоих случаях получается тот же результат. Здесь несовершенство общения подразумевает его совершенство и не только: оно еще и указывает, как его достичь.
Оптимизация общения понимается как программа совершенствования личности; задача риторической модели при этом состоит в том, чтобы не навязывать коммуниканту какого-нибудь «гарантированно» приводящего к успеху способа и средства воздействия, а помочь ему оказаться в таких условиях, в которых становится видимым то, что проецируется на его коммуникативную деятельность, и в которых он оказывается перед осознанным выбором и берет на себя ответственность за происходящее в соответствии с тем, как он видит себя и мир. В этом случае в общении есть место поступку и ответственности за поступок, которая теперь уже не производна от средств воздействия (что безосновательно и считается риторической проблемой), но определена субъ-ектно.
Tver State University
Об авторах:
Список литературы Теоцентризм в теории современной риторики
- фон Гильдебранд, Д. Основные нравственные принципы. СПб.: Алетейя, 1998. 112 с.
- Несмелов В.И. Наука о человеке. Тома 1, 2. Казань: Заря, 1994. 856 с.
- Разум и экзистенция. Анализ научных и вненаучных форм мышления. СПб.: Изд-во РХГИ, 1999. 402 с.
- Шрейдер Ю.А. Этика. М.: Текст, 1998. 271 с.