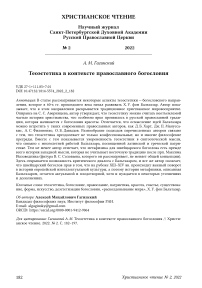Теоэстетика в контексте православного богословия
Автор: Гагинский Алексей Михайлович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 2 (101), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые аспекты теоэстетики - богословского направления, которое в 60-х гг. прошедшего века начал развивать Х. У. фон Бальтазар. Автор показывает, что в этом направлении раскрывается традиционное христианское мировосприятие. Опираясь на С. С. Аверинцева, автор утверждает, что теоэстетику можно считать неотъемлемой частью истории христианства, что особенно ярко проявилось в русской православной традиции, которая начинается с богословия красоты. Отмечается, что осмысление идей Бальтазара можно встретить у таких современных православных авторов, как Д. Б. Харт, Дж. П. Мануссакис, А. С. Филоненко, О. Б. Давыдов. Разнообразие подходов перечисленных авторов связано с тем, что теоэстетика преодолевает не только конфессиональные, но и многие философские преграды. Вместе с тем показывается укорененность теоэстетики в святоотеческой мысли, что связано с многолетней работой Бальтазара, посвященной латинской и греческой патристике. Тем не менее автор отмечает, что метафизика для швейцарского богослова есть прежде всего история западной мысли, которая не учитывает восточную традицию после прп. Максима Исповедника (фигура В. С. Соловьева, которого он рассматривает, не меняет общей концепции). Здесь открывается возможность критического диалога с Бальтазаром, и все же автор полагает, что швейцарский богослов прав в том, что на рубеже XIII-XIV вв. происходит важный поворот в истории европейской интеллектуальной культуры, а потому история метафизики, описанная Бальтазаром, остается актуальной и плодотворной, хотя и нуждается в некоторых уточнениях и дополнениях.
Теоэстетика, богословие, православие, патристика, красота, счастье, существование, форма, искусство, деэстетизация богословия, "расколдовывание мира", х. у. фон бальтазар
Короткий адрес: https://sciup.org/140293207
IDR: 140293207 | УДК: 27-1+111.85+7.01
Текст научной статьи Теоэстетика в контексте православного богословия
Кто не собирает со Мною, тот расточает
Мф 12:30
1. Контекст теоэстетики
Несколько непривычное пока еще слово «теоэстетика» (богословская эстетика) — это попытка терминологически зафиксировать крайне важную черту христианского мировосприятия, которая выражается в особом отношении к красоте, понимаемой как нечто принципиальное, столь же необходимое и конститутивное, как добро или истина. Невозможно представить христианство без этического измерения, однако часто упускают из виду, что в действительности оно не в меньшей степени должно быть и эстетичным. Разумеется, красота здесь понимается как нечто большее, чем просто «то, что нам нравится» (Толстой, 1983, 93)1. Как заметил однажды С. С. Аверинцев, «красота обряда или иконы — не „просто“ красота, но критерий истины, и притом наиболее важной из истин» [Аверинцев, 2006, 604]2. Иначе говоря, теоэстетику можно считать неотъемлемой частью истории христианства, что особенно ярко проявилось в русской православной традиции, которая буквально начинается с богословия кра-соты3. В связи с этим можно обратить внимание на замечание А. Г. Рукавишникова: «Складывается парадоксальная ситуация — появившись в лоне греко-византийского богословия и получив свое имплицитное развитие внутри православной традиции, эксплицитный статус теоэстетика получает на Западе, преимущественно в рамках католического богословия. (Справедливости ради надо признать, что один из основателей эксплицитной теоэстетики Ганс Урс фон Бальтазар отдает должное восточнохристианской традиции и в определенной степени восстанавливает исходный status quo…)» [Рукавишников, 2019, 204]4.
С формальной точки зрения теоэстетика — это большой проект, который в 60-х гг. прошедшего века начал разрабатывать католический богослов Х. У. фон Бальтазар (1905–1988)5. Поскольку его подход по существу не был ориентирован конфессионально, данный проект достаточно быстро перерос такого рода ограничения и стал интересен широкому кругу христианских мыслителей. В частности, осмысление идей Бальтазара можно встретить у столь разных православных авторов, как Д. Б. Харт, Дж. П. Мануссакис, А. С. Филоненко, О. Б. Давыдов, из чего следует, что теоэстетика преодолевает (разумеется, не отменяя) не только конфессиональные, но и многие философские преграды6. Так, если Харт полемизирует с постмодернизмом и развивает вариант «сильной теологии», испытав влияние Дж. Милбанка и радикальной ортодоксии, то Мануссакис, будучи учеником Р. Керни и Ж.-Л. Мариона, опирается на постмодернистские практики и ближе к «слабой теологии» [Харт, 2010; Мануссакис, 2014]. И если первый подход стремится реабилитировать метафизику, то второй пытается ее преодолеть, разрабатывая «постметафизическую теологию». Оба подхода достаточно сильно, как по стилистике, так и по методологии, отличаются от метанарратива Бальтазара, но вместе с тем остаются в широком русле теоэстетики. Интересный синтез обоих подходов представлен в работах А. С. Филоненко, который не только опирается на упомянутых авторов, но и вводит новые фигуры в обсуждение (митр. Антоний Сурожский, С. С. Аверинцев и др.)7, снимая противопоставление «слабой» и «сильной» теологии [Филоненко, 2018; Филоненко, 2022]. Еще один подход к теоэстетике, инспирированный Хартом и вслед за ним стремящийся выйти за пределы конфессиональных рамок, представлен в работах О. Б. Давыдова, которые отличаются высокой степенью риторичности [Давыдов, 2020; Давыдов, 2021]. Такое методологическое разнообразие связано с тем, что теоэстетика ориентирована не на полемику или деконструкцию — что стало, к сожалению, едва ли не основным методом современной теологии, — но на восстановление позитивного христианского мировосприятия. Впрочем, было бы ошибкой полагать, что речь идет о построении некоего внеконфессионального богословия. С моей точки зрения, такого попросту не существует. Например, Бальтазар всю жизнь оставался вполне традиционным католиком, принимающим специфические черты этого вероучения, которые неприемлемы для православных. Но вместе с тем он стремился найти способы плодотворного диалога с Восточной Церковью [Balthasar, 1988, 95–105]8. Поэтому важно подчеркнуть, что теоэстетика не снимает такого рода вопросов, она просто ориентирована на более изначальное, что есть общего у всех христиан, она обращена ко всему миру и говорит, опираясь на святоотеческое наследие. И с этой точки зрения теоэстетика не только ни в чем не расходится с православным вероучением, но является его прямым выражением и продолжением.
Необходимо пояснить, что речь идет не о попытке выстроить некое эстетствующее богословие и таким образом придать ему призрачный ореол актуальности — эта задача была бы сколь простой, столь и бессмысленной. Возвращение красоты — это попытка вернуть ракурс, «который когда-то всецело определял богословие» [Бальтазар, 2019, IX]; можно сказать, что это попытка заново научиться видеть мир по-христиански, или преодоление кризиса христианской культуры. Иначе говоря, задача состоит в том, чтобы выйти навстречу Богу, найти способ встретиться с Ним. Ибо недостаточно «вернуть Бога в мышление» [Ямпольская, 2011, 107] — чем довольно безуспешно занимается постметафизическая теология, — скорее, нужно вернуть мышление к Богу. Но и этого было бы недостаточно: отношения с Богом включают и чувства, то есть всего человека (Мф 22:37). Исходя из этого, «мы могли бы описать богословскую эстетику именно как ту сферу, которая… рассматривала бы Бога как возможный „объект“ опыта» [Мануссакис, 2014, 21]9. Поэтому не будет преувеличением сказать, что теоэстетика фактически совершает переход по ту сторону секулярности, и в этом, с моей точки зрения, заключается одно из главных достоинств этой богословской оптики10. Как заметил Э. Гуерьеро, «здесь речь идет о взгляде на природу, весьма близком воззрениям древних и признающем достоинство творения, в котором явлен Бог. Таким образом, форма есть божественное, след и отпечаток Бога в творении. Вот почему ни Гёте, ни Бальтазар не были затронуты искушением атеизма» [Гуерьеро, 2009, 19 (с изм.)]. Мне кажется, это очень важный и тонкий момент: атеизм преодолевается не путем апофатики и обесценивания мира11, а путем его оправдания и преображения, благодарения и восхищения (Пс 18:2; Рим 1:20). Ниже я раскрою это утверждение чуть более подробно.
2. Теоэстетика и патристика
Теперь следует отметить крайне важную особенность мировоззрения Бальтазара, а именно христоцентричность: о чем бы ни писал швейцарский богослов, в центре всегда находится фигура Христа. Но надо понимать, что христологическая проблематика была в полной мере раскрыта лишь в эпоху патристики, поэтому теоэстетика неразрывно связана со святоотеческим взглядом на мир. Позволю себе назвать этот подход рекапитуляцией, то есть восстановлением во Христе утраченного порядка12. В данном случае я использую это понятие в широком смысле: как человечество восстановлено во Христе, так и вся культура должна быть восстановлена через христианство. Как пишет Бальтазар,
Тем самым мы оказываемся перед центральным понятием богословия Иринея — идеей рекапитуляции : она также материально выражает формальную сторону метода, ведь она есть формообразующий момент мира и его истории как таковой. <…> Христос, который в «конце времен» стал человеком, связывает все текучее в сущностное и смысловое целое… само время через рекапитуляцию приобретает доброкачественность перед лицом вечности [Бальтазар, 2020, 48–49].
Иначе говоря, теоэстетика — это христоцентричная оптика, в которой отношения людей и вся культура обретают доброкачественность через рекапитуляцию, поскольку этика и эстетика в конечном счете осмысляются через фигуру Христа, связующего все воедино: «Красота тесно связана с формой (отсюда латинское formosus ), делающей прекрасное видимым и достойным удивления и любви. В христианстве красота — это Слава Божия, явленная нам в Иисусе Христе» [Гуерьеро, 2009, 207]. В этом смысле красота — это отнюдь не только эстетическое понятие, оно в не меньшей степени этическое и богословское: «„Этическое“ реализуется именно в контурах „эстетического“: за совершенством каждого слова, каждого жеста, каждой встречи Сына Человеческого стоит напряжение всей Божественной и человеческой „экзистенции“, жизни и смерти, неба и ада, которое делает его, совершенство, возможным» [Бальтазар, 2020, 5].
Будучи блестящим специалистом по патрологии, Бальтазар писал о сщмч. Иринее Лионском, Оригене, свт. Григории Нисском, блж. Августине и авторе Ареопагитского корпуса, которого назвал «самым эстетическим из христианских богословов» [Бальтазар, 2020, 178]. За работу о прп. Максиме Исповеднике в 1965 г. он был награжден Золотым крестом Святой горы Афон13, что свидетельствует о высокой оценке его деятельности в православной среде. В связи с этим не будет преувеличением сказать, что важнейший импульс теоэстетики следует искать именно в святоотеческом наследии: «Бальтазар стремился… вновь открыть свежесть христианской мысли греческих и латинских отцов» [Гуерьеро, 2009, 39]14. Впрочем, он постоянно обращался и к более поздним авторам — средневековым, новоевропейским, современным, что позволило ему создать проект, который опирается на традицию и одновременно смотрит в будущее, не игнорируя ни классические, ни современные формы творчества. Иначе говоря, этот проект актуализирует традицию, делает ее современной, а не пытается вернуть нас в прошлое, развивая специфическую форму культурной амнезии. Поэтому речь идет не столько о «возвращении к отцам», сколько о возвращении отцов к нам.
Еще одной методологической особенностью этого подхода является то, что эстетика рассматривается не исторически, как развитие от примитивных форм к более сложным (что само по себе крайне сомнительно), но как единое целое, которому причастны творцы разных времен:
…последовательная история богословской эстетики не может быть написана, поскольку ее просто не существует. В новых композициях интеллектуальной истории из метаисторического центра всякий раз пробиваются лучи оригинальных воззрений, которые, хотя и могут быть соотнесены друг с другом в исторической перспективе, зачастую эксплицитно соизмеряют себя друг с другом, черпают из великой традиции и отталкиваются от нее, но делают это не вплетением нитей в уже существующую ткань, а силой тотального видения. <…> На этом поле наблюдается столь же ничтожное развитие, что и в области мистики — а иначе и не бывает: les philosophes n’ont pas d’élèves (Пеги). Это наблюдение может несколько приглушить энтузиазм по поводу догматического развития богословия [Бальтазар, 2020, 12]15.
Такая установка позволяет включить в поле богословской рефлексии различные формы творчества, в том числе современные, что обогащает первое и наделяет смыслом второе16. Однако истоки этой методологии связаны не только с рекапитуляцией культуры, но и с определенной интерпретацией истории метафизики. В частности, Бальтазар полагал, что после Фомы Аквинского институциональные богословы, которые могли бы «без всякого эпигонства представить лучезарную силу откровения Христа», стали крайне редкими, вследствие чего
…сегодня это в большинстве своем светские авторы, обладающие достаточным богословским образованием, которые с более ясным видением и большей формообразующей силой, чем школьные богословы, могут нести дальше эту идею, придавая ей ту ширину и глубину, которая профессиональным богословам сегодня уже не представляется возможной. Линия разрыва, которая… была проложена где-то на переломе XIII и XIV веков, никоим образом не трактуется в полемическом смысле; она только отражает прискорбный, но неопровержимый факт. <…> После Фомы школьное богословие по большей части вплоть до XVIII века и вновь со второй половины XIX века было комментарием к нему [Бальтазар, 2020, 7–8].
С этой точки зрения теоэстетика наследует классическим богословским работам в плане методологии, с той лишь разницей, что уделяет больше внимания позитивному опыту мирских авторов17. В той части работы, которая посвящена «мирянским стилям» богословия, Бальтазар продолжает эту мысль:
Данте пишет свои основные произведения на просторечии примерно в 1300 году, и сознательно совершает важный шаг в истории человечества. Он наследует латинской схоластике, но она остается позади него. После Фомы Аквинского — сам скорее философ, нежели богослов, — ни один богослов, писавший на латыни, если исключить эксперименты Кузанца, не стал событием в интеллектуальной истории; даже Суарес оказал влияние главным образом как философ, тогда как комментаторы Фомы, сменявшие друг друга вплоть до эпохи Просвещения, явным образом идентифицируются как эпигоны [Balthasar, 1984, 365].
Впрочем, здесь следует отметить, что во второй половине XX в. значение поздней схоластической мысли было несколько пересмотрено, в результате чего Фома уже не представляется вершиной средневековой мысли, после которого она пошла на спад, постепенно погружаясь в полное забвение [Вдовина, 2019, 7–9]. Картина истории метафизики оказалась чуть более сложной18. Это справедливо и еще в одном отношении: метафизика для швейцарского богослова есть история западной мысли, которая не учитывает восточную традицию после прп. Максима Исповедника (фигура В. Соловьева, которого рассматривает Бальтазар, не меняет общей концепции). Здесь открывается возможность диалога с Бальтазаром для православных авторов. И все же нельзя не признать, что около XIV в. происходит важный поворот в истории европейской интеллектуальной культуры, а потому история метафизики, описанная Бальтазаром, остается актуальной и плодотворной, хотя и нуждается в некоторых уточнениях.
Итак, оправдание творчества обосновывается богословски и метафизически, причем достигается это с помощью переоценки роли мирян в жизни Церкви и вообще в исто рии христианства, когда их творче ство не отторгается, но наоборот — принимается
Церковью. Стало быть, теоэстетика — это не противоестественное включение истории эстетики в богословие, но умение увидеть в разнообразных формах творчества сияние красоты, добра и истины, через которые проявляется слава Божия.
3. Достоинство творения и теоэстетика
С древних времен в христианском богословии бытует представление о том, что Бог сотворил мир in ornamentum majestatis suae — «для украшения Своего величия», то есть тварное сущее есть как бы орнамент, украшение бытия (от ornare — «украшать»), поэтому греки и называли его κόσμος — «стройный порядок, украшение» ( Tertullianus. Apologeticus 17 // PL. T. 1. Col. 375B). Однако такая эстетическая космология, или космоэстетика , свойственная античному и средневековому мировосприятию, в эпоху модерна постепенно стала терять позиции и в конечном итоге была утрачена. Это отчасти связано с «расколдовыванием мира» (Entzauberung der Welt)19 — процессом, первоначально направленным против магических представлений, но после Реформации обращенном на религию в целом. Как писал М. Вебер,
Это абсолютное устранение веры в спасение души с помощью церкви и таинств (с последовательностью, еще неведомой лютеранству) было той решающей идеей, которая отличала кальвинизм от католичества. В этом находит свое завершение тот великий историко-религиозный процесс расколдовывания мира , начало которого относится ко времени древнеиудейских пророков и который в сочетании с эллинским научным мышлением уничтожил все магические средства спасения, объявив их неверием и кощунством [Вебер, 1990в, 143].
Важно то, что расколдовывание мира постепенно приводит к его обезбоживанию: поскольку «все делается с помощью технических средств и расчета», начинает преобладать механистическая картина мира, в которой уже нет места не только магии, но и Богу. Область религиозного начинает сужаться, место космоэстетики занимает антропопоэтика, когда основания для веры в Бога усматриваются исключительно в человеке, что приводит к росту индивидуализма, сентиментализма, психологизма и мистицизма: «C ростом расколдования мира религиозность неизбежно вынуждена (субъективно) все более прибегать к иррациональным по цели смысловым связям (например, основанным на определенной „настроенности“ или мистическим)» [Вебер, 1990б, 501]. Вселенная как бы опустошается метафизически, она больше не представляет собой прекрасный орнамент, который свидетельствует о славе Господа, но становится враждебной и пустой. Соответственно, человек замыкается в себе и стремится изолироваться от нее, насколько это вообще возможно20. Как отмечает Ч. Тейлор, важнейшим условием расколдовывания мира «стало новое чувство „я“ и его места в космосе — не открытого, пористого и уязвимого для мира духов и сил, но такого, которое я бы назвал „изолированным“. Но для становления такого изолированного „я“ одного лишь расколдования было недостаточно — человеку требовалась также уверенность в своей способности самому быть творцом морального порядка» [Тейлор, 2017, 35–36]21. И в этом отношении уже было на что опереться.
Как гласит широко известное высказывание И. Канта, «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне » (Кант, 1994, 562). Казалось бы, вот гармоничное единство космического и антропологического, однако вслед за этим философ добавляет:
Первый взгляд на бесчисленное множество миров как бы уничтожает мое значение как животной твари , которая снова должна отдать планете (только точке во вселенной) ту материю, из которой она возникла, после того как эта материя короткое время неизвестно каким образом была наделена жизненной силой. Второй, напротив, бесконечно возвышает мою ценность как мыслящего существа, через мою личность, в которой моральный закон открывает мне жизнь, независимую от животной природы и даже от всего чувственно воспринимаемого мира… (Кант, 1994, 563).
Сколько бы ни наполняло звездное небо удивлением и благоговением душу человека, оно уничтожает его значение , поскольку он чувствует себя лишь точкой во вселенной, неизвестно каким образом получившей жизнь. Вселенная перестает быть домом для человека, в котором уютно и хорошо, она видится чем-то враждебным, а потому хочется стать независимым «от всего чувственно воспринимаемого мира». Человек может надеяться лишь на себя, следовательно, лишь в себе можно искать и следы Божественного. Поэтому Кант отвергает все доказательства бытия Бога, кроме морального — вселенная утратила свою Славу, ничто более не свидетельствует о Боге, кроме нравственного закона в душе22, религия ограничивается долгом и чистым разумом. Таким образом, космоэстетика сменяется антропопоэтикой, представленной в разных формах: от религиозного пиетизма до философского идеализма.
Однако, как бы человек ни хотел изолироваться от мира, он является его частью, поэтому процесс расколдовывания естественным образом распространился и на него, то есть после «космологической редукции» последовала антропологическая, как говорит Бальтазар23. Человек утратил ресурсы независимости, в нем не осталось ничего, что могло бы выделить его из животного мира, даже его прекрасная душа была поставлена под сомнение. И теперь мы не нуждаемся в гипотезе Бога не только для объяснения вселенной, согласно Лапласу, но и для объяснения человека, согласно Дарвину, Марксу и Фрейду. Теперь человек без остатка раскладывается на животные инстинкты, совокупность общественных отношений и подсознательные желания. Как следствие, «моральный закон» теряет характер императивности…
Все это фактически положило конец христианскому истолкованию мира и человека, забота о которых легла на плечи титанов науки. Объяснительные возможности и стратегии теологии стали сокращаться и практически обнулились к началу прошлого века, она стала как бы вещью в себе, культивирующей свою историю, но почти не имеющей связи с внешним миром и естественными науками. Так, если для традиционного христианского мировоззрения «небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его возвещает твердь» (Пс 18:2), «ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим 1:20), то теперь многие люди не видят ничего, кроме безликих законов природы и камней, валяющихся вокруг24. Проблема в том, что в сложившихся условиях христианство не смогло предложить убедительную стратегию для объяснения мира, вынужденно оставив его «точным наукам» и удовольствовавшись лишь душепо-печением, которое не продлилось долго: на смену исповеди пришла психотерапия — и стало «всё окей».
Итак, утрачивая эстетическое измерение, то есть отказываясь от святоотеческого мировосприятия, христианство довольно быстро превращается в «этическую рели-гию»25, которая сама по себе бессильна что-либо сохранить или изменить. При этом и сама эстетика, оставленная без внимания и потерявшая философскую глубину, естественным образом трансформируется26, в результате чего христианская культура становится крайне настороженной, а порой и просто враждебной по отношению к искусству и красоте — и это уже совершенно критическое, почти что катакомбное мировосприятие. Достаточно открыть позднего Л. Толстого, чтобы увидеть эту странную «этическую религию», имитирующую христианство:
Добро, красота и истина ставятся на одну высоту, и все эти три понятия признаются основными и метафизическими. Между тем в действительности нет ничего подобного. Добро есть вечная высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали добро, жизнь наша есть не что иное, как стремление к добру, то есть к Богу.
<…> Красота же, если мы не довольствуемся словами, а говорим о том, что понимаем, — красота есть не что иное, как то, что нам нравится. Понятие красоты не только не совпадает с добром, но скорее противоположно ему, так как добро большей частью совпадает с победой над пристрастиями, красота же есть основание всех наших пристрастий. Чем больше мы отдаемся красоте, тем больше удаляемся от добра (Толстой, 1983, 93).
4. Почему именно красота?
Нет никаких сомнений, что христианство предполагает стремление к добру, однако противопоставлять это красоте есть какая-то чудовищная девиация27, которая не имеет ничего общего со святоотеческим мировосприятием, для которого добро и красота нераздельны: «Благо (τἀγαθὸν) воспевается… и как прекрасное, и как красота… (καὶ ὡς καλὸν καὶ ὡς κάλλος) <…> Сверхсущностное прекрасное (Τὸ δὲ ὑπερούσιον καλὸν) называется красотой (κάλλος) потому, что от Него всему сущему сообщается свойственная каждому краса (καλλονὴν)» (Pseudo-Dionysius Areopagita. De divinis nominibus IV.7). Какие бы возвышенные моральные намерения ни были у Канта, Гегеля или Толстого, если Красота есть имя Бога, то отвержение красоты есть отвержение Бога, отвержение красоты есть кратчайший способ обесценивания добра…
Казалось бы, как вообще можно придавать такое значение красоте, которую едва ли кто-то будет считать важной для богословия? Как отмечает Бальтазар,
Из-под католического и протестантского пера как само собой разумеющееся выходит слово «эстетически», когда речь должна идти о подходе в конечном счете несерьезном, исключительно умозрительном и потребительском. И напротив, для приверженцев эстетического мировоззрения этически-религиозное, позитивно-христианское является тем, что непременно искажает или даже делает невозможным верный подход [Бальтазар, 2019, 35].
Ведь сказал же великий писатель, что красота — это лишь «то, что нам нравится», а всякий знает, что каждому нравится свое, поэтому совершенно непонятно, как можно всерьез говорить о теоэстетике как о «первом богословии»28. Более того, не только религия, но и само искусство в XX в. отреклось от красоты. Как заметила Г. Стайн, «назвать произведение искусства красивым — все равно что объявить его мертвым»29. Не выглядит ли богословская эстетика на этом фоне чем-то непростительно легкомысленным, неким курьезом, который не следует принимать во внимание? Как следует из сказанного выше, дело обстоит противоположным образом: «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла» (Мф 21:42).
Согласно Х. У. фон Бальтазару, в мире без красоты слабеет «притягательная сила добра» [Бальтазар, 2019, 5], добро становится неубедительным и неинтересным: без красоты оно становится пустым морализаторством. И именно такая ориентированность только на добро приводит к резкому отторжению от христианства, что блестяще продемонстрировал Ф. Ницше:
Трудно найти чисто эстетическому истолкованию и оправданию мира… более разительную антитезу, чем христианское учение, которое и есть, и хочет быть лишь моральным, и своими абсолютными мерками, хотя бы, например, уже своей правдивостью Бога, изгоняет искусство, всякое искусство в область лжи, — то есть отрицает, проклинает, осуждает его… <…> Ненависть к «миру», проклятие аффектам, страх перед красотой и чувственностью, потусторонний мир, изобретенный для того, чтобы лучше оклеветать этот, на деле же стремление к ничто, к концу, к успокоению, к «субботе суббот» — все это всегда казалось мне, вместе с безусловной волей христианства признавать лишь моральные ценности, самой опасной и жуткой из всех возможных форм «воли к гибели» или по крайней мере признаком глубочайшей болезни… (Ницше: Рождение трагедии, 2012, 15–16).
Это звучит как приговор. И самое главное — это должно быть карикатурой, полной противоположностью христианскому отношению к миру и к творчеству, однако никакого противоречия в этих словах почему-то не чувствуется… Как следствие, христианство остается вне искусства, а значит, и вне творчества, вне культуры, то есть оно оказывается где-то на периферии, где только догмы и долг. Как будто подлинный образ христианства — аскетическая пустыня, и ничего более: всякий, кто засмеялся, уже согрешил в сердце своем… Поэтому вполне естественно, что искусство в XX в. потеряло христианские ориентиры. И потому удивительно, что до сих пор встречаются случаи, когда религиозные деятели выступают против современного искусства, пытаясь навязать ему моральные нормы. Только откуда этим нормам там взяться, если христиане сами оставили искусство без попечения? Если «христианское учение, которое и есть, и хочет быть лишь моральным, и своими абсолютными мерками… изгоняет искусство, всякое искусство в область лжи, — то есть отрицает, проклинает, осуждает его…» Как известно, свято место пусто не бывает, в храм искусств пришли иные творцы, навязывать которым христианские ценности просто бессмысленно. Как бы банально это ни звучало, но если христиане хотят видеть высокие произведения искусства, то они должны начать их создавать30. А для этого необходимо создавать условия, при которых появятся соответствующие предпосылки для христианского творчества, то есть прежде всего нужно показать богословскую необходимость эстетики , ибо она есть творческое преображение мира. Нужно открыть богословие для эстетики и эстетику для богословия. Поэтому теоэстетика представляется совершенно необходимой сегодня.
Х. У. фон Бальтазар называет сложившуюся ситуацию «деэстетизацией богословия» (Entästhetisierung der Theologie)31. Отказ от красоты приводит к тому, что мир предстает лишь «голой материей», которая «как бы уничтожает мое значение как животной твари», человек лишается способности любить, у него остается лишь моральный долг, который он со временем начинает ненавидеть:
4. Вместо заключения
Красота, которую уже не любит и не пестует даже религия, но которая, подобно маске, сдернутой с человеческого лица, обнаруживает на нем черты, которые рискуют никогда не быть распознанными. Красота, в которую мы больше не отваживаемся верить и которую превратили в эфемерность, чтобы проще было от нее избавиться, но которая (как сегодня выясняется) требует столько же мужества и решимости, сколько истина и доброта, и которая не дает себя отделить от двух других своих сестер без того, чтобы в таинственном акте мести не увлечь за собой обе другие. Кто при ее упоминании презрительно поджимает губы, как если бы она была декоративной деталью мещанского прошлого, тот наверняка уже не способен молиться и в скором времени лишится способности любить. XIX век в своем страстном дурмане еще цеплялся за края одежды беглянки, но черты растворяющегося старого мира… сам мир, наполненный Божьим светом, становится призраком и сном, романтикой, а вскоре станет только музыкой, но там, где прореживаются облака, проступает невнятная картина страха, нагой материи; и, поскольку ничего больше нет, но все же что-то надо обнимать, человеку нашего века рекомендуют петь эти невозможные гимны, от которых он теряет всякое желание любить. То же, что для человека больше невозможно, к чему он утратил способность, делается для него нестерпимым, и он всеми силами стремится это отрицать или истребить [Бальтазар, 2019, 4–5].
Иначе говоря, утрата красоты имеет не только эстетическое (в узком смысле) значение, она оказывается фундаментальной величиной, без которой христианство теряет что-то настолько существенное, что это просто меняет ход истории. Если красота, истина и добро связаны между собой — а это именно так, — то вполне естественно, что пренебрежение чем-то одним приводит к утрате и других аспектов бытия. Ибо кто при упоминании красоты презрительно поджимает губы, «тот наверняка уже не способен молиться и в скором времени лишится способности любить»…
Из сказанного следует, что деэстетизация богословия — это одна из причин кризиса христианства, которая приводит к отчуждению от культуры, к разделению религиозного и секулярного. Теоэстетика есть настоятельный призыв исправить эту ситуацию. Причем важно отметить, что в этом призыве нет ничего нового ни для христианства, ни для искусства, поскольку первое всегда выражало себя в искусстве, а второе обессмысливается без религиозной составляющей. Мне кажется, весьма удачную и емкую формулировку теоэстетического видения искусства дает Б. Пастернак: «…искусство всегда служит красоте, а красота есть счастье обладания формой, форма же есть органический ключ существования, формой должно владеть все живущее, чтобы существовать и, таким образом, искусство, в том числе и трагическое, есть рассказ о счастье существования» (Пастернак, 2005, 748). В этой краткой фразе в сжатом виде представлен комплекс понятий, с которыми работает теоэстетика: счастье, существование, форма, красота, искусство. Пожалуй, трудно найти более точное и краткое объяснение того, что такое теоэстетика. Ведь и богословие, в неменьшей степени, чем искусство, есть рассказ о счастье существования.