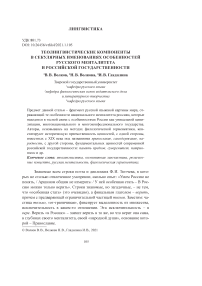Теолингвистические компоненты в секулярных именованиях особенностей русского менталитета и российской государственности
Автор: Волков Валерий Вячеславович, Волкова Наталья Васильевна, Гладилина Ирина Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
Предмет данной статьи - фрагмент русской языковой картины мира, отражающий те особенности национального менталитета россиян, которые находятся в тесной связи с особенностями России как уникальной цивилизации, многонационального и многоконфессионального государства. Авторы, основываясь на методах филологической герменевтики, констатируют историческую преемственность ценностей, с одной стороны, известных с XIX века под названиями православие, самодержавие, на родность , с другой стороны, фундаментальных ценностей современной российской государственности: память предков, суверенитет, патрио тизм и др.
Теолингвистика, когнитивная лингвистика, религиоз ные концепты, русская ментальность, филологическая герменевтика
Короткий адрес: https://sciup.org/146282266
IDR: 146282266 | УДК: 801.73 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.1.105
Текст научной статьи Теолингвистические компоненты в секулярных именованиях особенностей русского менталитета и российской государственности
По-своему не менее знаменитый, чем поэт Тютчев, американский политолог С. Хантингтон в главной своей книге «Столкновение цивилизаций» фиксирует такие фундаментальные отличия православной цивилизации от западной, как «византийские корни» и «ограниченное влияние на нее Возрождения, Реформации, Просвещения» [16, с. 56]. Заметим, что существо всех названных эпох – по отношению к христианству как основоположению европейской цивилизации – сводится к последовательному отторжению от него: Возрождение принесло в Европу античное язычество, Реформация – сектантское своевольство в прочтении христианских истин, а Просвещение – воинствующий атеизм. Христианство как религия богочеловечества, единящая людей в Творце, последовательно замещается в Европе квазирелигиозной идеологией обожествления человека – как «меры всех вещей».
Неоязыческому обожествлению самодовлеющего «я», декларированному как свободы и права человека в Конституции Франции («Декларации прав человека и гражданина» 1791 года), граф С. С. Уваров в докладной записке «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвещения», поданной им императору Николаю I 19 ноября 1833 г., предлагает противопоставить коренные христианские начала – Православие, самодержавие, народность , которые позволят России выстоять «посреди всеобщего падения религиозных и гражданских учреждений в Европе» [15, с. 103].
Уваровский перечень – не «нарочно придуманный», он органичный. Выдержав невообразимое количество насмешек со стороны разного рода «прогрессивно мыслящих» личностей, существует до сих пор, – преимущественно не напрямую, а в перифразах, как, например, в старом воинском девизе «За веру, царя и Отечество!»
В современной, сугубо секулярной редакции Конституция Российской Федерации – документальное свидетельство, что наша страна, вполне «по Уварову», как он писал почти двести лет назад, «…к счастию, сохранила доселе теплую веру к некоторым религиозным, моральным и политическим понятиям, ей исключительно принадлежащим. В сих понятиях, в сих священных остатках ее народности находится и весь залог будущего ее жребия» [Там же]. Преамбула Конституции, в частности, провозглашает, что народ принимает свою Конституцию, «…чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы…» [6, с. 3]. Поскольку (1) «память предков» неотделима от Православия, (2) «суверенная государственность» в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране нуждается в жесткой, как говорят сейчас, «вертикали власти», а (3) «демократические основы» предполагают уважение к глубинной воле «простого народа», – то даже один только цитированный фрагмент позволяет утверждать: историческая преемственность в ключевых концептах картины мира русских – россиян, всех граждан нашей страны по-прежнему основывается на началах христианства и родственных ему по духу других мировых религий.
Таким образом, налицо две «прецедентные триады» именований, фиксирующих одновременно (1) фундаментальные ценности русского менталитета и (2) основания уникальной российской государственности, от истоков до современных конституционных основоположений: в исторической проекции – Православие, самодержавие, народность , в современности – память предков, суверенитет / вертикаль власти, демократизм / патриотизм . Характер попарной семантической соотносительности между элементами эти триад терминологически фиксировать можно по-разному: именовать соотносительные пары синонимами, квазисинонимами, семантическими аналогами или симилярами – «синонимоподобными» элементами, – существо дела от используемого «терминологического ярлычка» не меняется: историческая лингвоментальная преемственность налицо и не требует каких-то подробных комментариев, ср.: 1) православие – память предков ; 2) самодержавие – суверенитет ( самодержавие = автократия , где верховная власть принадлежит одному лицу, суверенитет = верховная власть самой страны над своей собственной судьбой, при фр. souverain ‘верховный’ – из лат. superus ‘верхний’); 3) народность – демократизм / патриотизм , при очевидных параллелях: народ – др.-гр. demos ‘народ’ и pater ‘отец; основатель, родоначальник’.
Какое русское существительное и/или их (квази)синонимический ряд можно интерпретировать как своеобразный «семантический интеграл» – именование, выступающее в условно-обобщающей функции по отношению к частным ключевым особенностям русского национального и одновременно российского цивилизационного менталитета, обеспечивающего прочность государственного устройства?
Ключевое понятие, однословно фиксирующее христианские истоки русского национального характера, глубоко разработанное в русской славянофильской традиции начиная с А. С. Хомякова (подробно см.: [3]), – это соборность, находящаяся в тесной корреляции с секулярным словом коллективизм, полагавшимся, в свою очередь, в основание советского «морального кодекса строителя коммунизма». Вслед за Хомяковым в христианской антропологии и социологии считается, что человек обретает полноту лишь в основывающемся на взаимной любви соборном единстве с другими, ср.: «Одинокость человека есть его бессилие, и тот, кто оторвался от своего народа, тот создал кругом себя пустыню, как бы он ни был окружен множеством людей и как бы он ни считал себя чле- ном общества» [17, с. 114]. Равно и общество обретает цельность лишь через духовное – в Боге единение многих: «…собор выражает идею собрания не только в смысле проявленного, видимого соединения многих в каком-либо месте, но и в более общем смысле всегдашней возможности такого соединения, иными словами: выражает идею единства во множестве» [Там же, с. 455].
В Программе КПСС (ныне сугубо историческим документе для огромного большинства граждан нашей страны) инициальное качество в ряду тех черт «коммунистической морали, за утверждение которой выступает КПСС», – именно коллективизм, ср.: «… мораль коллективистская . “Один за всех, все за одного” – таков ее основополагающий принцип. Она несовместима с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием, гармонично сочетает общенародные, коллективные в личные интересы…» [9, с. 53]. Заметим, что представленная в Программе формула коллективизма, ассоциируемая обычно с романом А. Дюма «Три мушкетера», в разных вариантах бытует в русских пословицах, ср. у В.И. Даля: Один в поле не воин; Стоять всем за одного и одному за всех; Одному против многих не замышлять; Быть, стоять за-один, за одно (круговой порукой); Быти за один муж всем, стоять за один до живота (стар.) [4, с. 650–651]. Где первоисточник? Не предшествует ли мудрым народным речениям и (тем более) Программе КПСС евангельское слово, главнейшее у Христа: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин 13: 34)? Или народная мудрость как бы «сама собой» оказалась созвучной слову Христа? Не будем пытаться выбрать один ответ из этих двух вариантов, – ограничимся констатацией их разительной близости.
Разумеется, народная мудрость до высоты евангельского слова не дотягивается, но оказывается благодатной почвой, на которой важнейшая христианская заповедь любви дала и ростки, и плоды.
Общеизвестно знаменательное начало речи И. В. Сталина 3 июля 1941 года, в котором он, по точной оценке современного биографа, «вдруг затронул глубинное чувство тысячелетней народной общности», обратившись к народу пятью (!) разными формулами обращения: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!» [11, с. 609]. Поясним: «партийное» обращение Товарищи!; «гражданское» Граждане!; религиозное Братья и сестры!; воинское Бойцы!; дружески-«родственное» Друзья мои! Иными словами: обращается к народу партийный руководитель, глава правительства (по должности – председатель Государственного комитета обороны), моральный (нельзя сказать – религиозный) лидер, военачальник, дружески близкий человек, – всё в одном лице. Символическое, по формулировке Хомякова, «единство во множестве», как призыв к единению всех, кто причастен к родной земле, и к целостности личности каждого, к единству всех ее компонентов, сколь бы различны они ни были.
Основание соборности / коллективизма – естественная, органичная для человека религиозность как сознательное или (чаще) бессознательное чувство если не соединенности, то некоей скрыто-теплой общности и с Создателем, и с другими людьми. Классик русской религиозной философии Н. О. Лосский, систематически рассматривая в работе «Характер русского народа» его «нравственные свойства», называет первую главу «Религиозность русского народа», открывает ее утверждением: «Основная, наиболее глубокая черта характера русского народа есть его религиозность и связанное с нею искание абсолютного добра, следовательно, такого добра, которое осуществимо лишь в Царстве Божием» [7, с. 240]. Обратим внимание в цитате на акцентировку «наиболее глубокая» черта, значит – не вполне осознаваемая.
Все остальные черты русского национального менталитета, по-разному исчисляемые разными авторами, рассмотренные нами в работах [1; 2], в конечном счете восходят именно к (скрытой) религиозности; усмотрение в частных именованиях подспудных религиозных (в практике исследования – теолингвистических) компонентов составляет серьезную перспективную задачу когнитивной лингвистики и филологической герменевтики. К примеру, антиномия судьбы и свободы разрешается на основе свободного приятия Божией воли как наилучшего варианта судьбы , уготованной (1) отдельному человеку, (2) народу и целой нации, (3) государству, облекающему народное тело в плоть исторического бытия. В существительном подвиг полезно усматривать связь с подвижничеством как (1) внутренним духовным деланием отдельного человека, совершающимся в надежде на обожение, и (2) «делом государственным», соотносящимся с представлениями об особой цивилизационной миссии России, в существительном воля – нацеленность на соединение Вышней и человеческой воли, личной, общественной и государственной, т. д.
Концентрированное и прикровенно-строгое, в словесном отношении аскетичное выражение фундаментальных основ русского менталитета и одновременно российской государственности – в тексте Государственного гимна России. Семантическое ядро гимна – секулярный парафраз тех смыслов, которые в сакрально-религиозной проекции опредмечиваются лексемами религиозность и соборность ; в тексте гимна это (1) историческая преемственность вековой мудрости, составляющей основание Отечества, оно же – надмирная «предками данная мудрость народная», ментальная основа государственного суверенитета, (2) единство народной воли в верности Отчизне, «хранимой Богом родной земле».
Государственный гимн – текст и музыкальное произведение особого рода, не только «концентрированное выражение государственной идеологии, национальной идеи» [5, с. 196], но даже в условиях секулярного государства транслирующее древние сакрально-религиозные представления о всеединстве, «нераздельности и неслиянности» секулярных и сакральных, земных и небесных, правовых и нравственных оснований соборного сообщества россиян. Как государственный символ, гимн нацелен на выражение интенций единства, цельности человека и народа, нации и государства, личности и общества, вплоть до их мистического взаимоотождествления.
Текст государственного гимна, при кажущейся простоте, семантически чрезвычайно сложен; по причине глубинных, формально не акцентированных ассоциативных связей он плохо поддается анализу и интерпретации – прежде всего в силу совмещенности в нем секулярных и сакральных компонентов.
Прямолинейный секулярный подход, а именно: обычный лингвостилистический анализ Гимна России – «деконструкция», нацеленная на выявление и дискурсивную оценку изобразительно-выразительных средств, – выявляет богатство использованных средств и стилистических приемов [19], деликатно оставляя за кадром задачу интерпретации их глубинных внутритекстовых смыслов; не менее прямолинейный тео-лингвистический анализ, нацеленный на сугубо религиозное прочтение ключевых лексем [18], явно преувеличивает возможность корректного прямолинейного прочтения ассоциативных связей гимна с глубинами христианского вероучения. Такие связи есть, но они – прикровенны, они в глубинах исторической памяти ключевых лексем, как корни мощного дерева, на «семантической поверхности» которого современные ствол и ветви, листва и плоды.
Гимн России выражает, по точному выражению Л. Н. Толстого о специфике русского национального характера, «скрытую теплоту патриотизма»; транспонируя эту мысль на целеустановки филологической герменевтики, получаем формулировку задачи: выявить сакрально-секулярную бимодальность семантики ключевых лексем. Христианская семантика ненавязчиво «просвечивает», как «культурная память», в «обычных» секулярных именованиях.
Инициальная фраза: «Россия – священная наша держава…». Обратим внимание: 1) не страна , не государство , именно – держава ; 2) не великая или могучая , именно – священная .
Как очевидно, сущ. держава – от глагола держать. В современном толковании держава – «независимое государство, ведущее самостоятельную политику» [8, с. 252]. Отсюда – великие державы, сверхдержава… «Великие» – значит подлинно суверенные, независимые; сверхдержава – не значит «очень большая страна», прежде всего – «страна / государство, абсолютно независимое в силу своей самостоятельности и внутренней мощи». Это современное понимание существительного держава лишено ясной связи с вопросом о содержании его внутренней формы: 1) что именно «держит» – держава, 2) чем держава – «держится»? Ответ не надо «придумывать» - он заложен в определениях священная и наша: 1) «держит» держава – то святое, что составляет ее основание, поэтому – священная, причем священное держава не только «держит / хранит», но и священным «держится», на нем самосозидается; 2) «держится» держава – еще и тем, что она наша (притяжательное местоимение), крепка силой своего народа, его верностью, а главное – тем, что она – «хранимая Богом»; по богооткровенному слову, «…держава и страх у Него; Он творит мир на высотах Своих!» (Иов 25:2).
Священный , даже в современном толковании, по первому значению: «Обладающий святостью, признаваемый божественным; священный» [Там же, с. 1166]. Священный – суффиксальное образование от святой , где у суффикса - енн ( ый ) закономерно усматривается значение «усиленной степени качества», как в (более очевидных) здоровенный или широченный [10, с. 300]. Соответственно святой – «исходящий от Бога; связанный с Богом; близкий к Богу» [14, с. 344]. «Держит» наша держава – священные (< святые ) заветы предков, хранимые религией, – в переложении на современный политический язык, «держит» – «традиционные ценности», они же – ценности Ветхого и Нового Заветов, христианства и других мировых религий. Когда ныне стыдливо-завуалированно говорят «традиционные ценности», то полезно помнить: это ценности бо-годухновенные, а составное словосочетание «предками данная мудрость народная», в тексте гимна выступающее как перифраз именования Отечество , – не что иное, как опять-таки освоенная народом мудрость мировых религий.
Обратим еще внимание на заключительные строки первого куплета: «Могучая воля, великая слава – / Твое достоянье на все времена». В квазисинонимическом ряду однородных членов – воля и слава . Сущ. слава естественно ассоциируется в современном словоупотреблении с почетной известностью, всеобщим признанием, однако в сакральном смысле слава – это «божественное сияние» [Там же, с. 361]; « Бог в его епифании, то, что Бог открывает, являет » [13, с. 315]. Далее и воля , в секулярном прочтении «сознательное стремление к осуществлению чего-либо» [8, с. 148], обретает и смысл стремления к осуществлению воли Божией, Божиего промысла о России.
В этом контексте строки гимна прочитываются как напутствие современным властвующим: «вертикаль власти», как абсолютная ценность, не замыкается на них как на вершине, поскольку они – лишь проводники Вышней воли. Отсюда евангельское напутствие «совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте…» (1 Тим 2: 1–2). Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский (1782–1867), пояснял: «… лучшее и полезнейшее для человеческих обществ обыкновенно делают не люди, а человек, не многие, а один. <…> …неоднократно один судия спасал от врагов и зол целый народ» [12, с. 496]. Помнить об этом – необходимо.
Завершая, отметим: загадочна Россия не только для иностранцев, но и для нас самих, ее граждан. В филологическом контексте – загадочна теми глубинами смыслов ключевых слов, характеризующих особенности национального характера, в которых скрыто извечное стремление к живому ощущению Божьего присутствия, к смиренному соработничеству с вышними силами.
Tver State University
Список литературы Теолингвистические компоненты в секулярных именованиях особенностей русского менталитета и российской государственности
- Волков В. В., Волкова Н. В. «Ренессанс русской литературы»: национальный менталитет и литература духовного реализма в преподавании русской словесности // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 3. С. 147–157.
- Волков В. В., Волкова Н. В., Гладилина И. В. Русский менталитет и европейская идентичность. Лингвистический и лингвоментальный аспекты // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2019. № 1. С. 69–80.
- Горелов А. А. А. С. Хомяков: учение о соборности и русская община // Знание. Понимание. Умение. 2017. № 2. С. 78–97.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : В 4 т. Т. 2. М. : Рус. яз., 1999. 780 с.
- Казаков Г. А. Религиозный пафос советских гимнов // Политическая лингвистика. 2013. № 4(46). С. 196–203.
- Конституция Российской Федерации (с поправками от 14.03.2020 г.). Федеральные конституционные законы. М.: Мартин, 2020. 64 с.
- Лосский Н. О. Условия абсолютного добра: Основы этики. Характер русского народа. М. : Политиздат, 1991. 368 с.
- Новейший большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 2008. 1536 с.
- Программа Коммунистической партии Советского Союза: новая редакция; принята XXVII съездом КПСС. М. : Политиздат, 1986. 80 с.
- Русская грамматика : В 2 т. / гл. ред. Н.Ю. Шведова. Т. 1. М. : Наука, 1980. 783 с.
- Рыбас С. Ю. Сталин. М. : Молодая гвардия, 2015. 911 с.
- Святитель Филарет, митрополит Московский. Меч духовный. М. : Ин-т русской цивилизации, 2017. 720 с.
- Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские паронимы. М. : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2008. 432 с.
- Скляревская Г. Н. Словарь православной церковной культуры. М. : Астрель, 2008. 447 с.
- Уваров С. С. Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. 608 с.
- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М. : АСТ, 2003. 603 с.
- Хомяков А. С. Философские и богословские произведения. М. : Книжный Клуб Книговек, 2013. 592 с.
- Чернушенко М. Гимн России [Электронный ресурс] // Радонеж. ру. URL: https://radonezh.ru/analytics/gimn-rossii-46773.html. (Дата обращения: 28.12.2020.)
- Якоба И. А. Деконструкция Гимна России: выявление дискурсивных сил взаимодействия // Дискурс-Пи. 2017. № 2(27). С. 174–180.