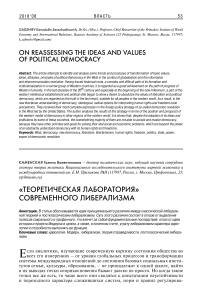"Теоретическая лаборатория" современного либерализма
Автор: Каменская Галина Валентиновна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Позиция
Статья в выпуске: 8, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается идея принципиального различия между классической либеральной теорией и постклассическим либерализмом. Суть этого различия состоит в отказе от выделения полюсов сакрального и профанного, что влечет за собой фундаментальные последствия: отказ от идеи истории и проекта Модерна в целом, а также, в конечном счете, утрату либерализмом характера идеологии и способности выполнять ее функции.
Идеология, модерн, либерализм, теория справедливости, постклассический либерализм
Короткий адрес: https://sciup.org/170170808
IDR: 170170808 | DOI: 10.31171/vlast.v26i8.6044
Текст научной статьи "Теоретическая лаборатория" современного либерализма
Если аналитики, изучающие современную картину состояния общества во всех его измерениях – от уровня глобальных процессов и трансформации системы международных отношений до состояния базовых социальных институтов семьи, культуры, образования, – не принадлежат к одной школе, найти в их выводах точки соприкосновения бывает далеко не просто. Но когда такие точки все же есть, то чаще всего они сводятся к констатации неустойчивости и переходного характера сложившихся систем, норм и правил регулирова- ния, вступления мира в период «большой дестабилизации», а также к открыто признаваемому отсутствию понимания того, что придет на смену нынешней реальности. Неопределенность, нестабильность, промежуточный этап, кардинальное переустройство, неожиданные итоги, стремительный поворот – такого рода слова выносятся в заголовки материалов, посвященных результатам выборов в ведущих странах Запада, ранее представлявшихся оплотом предсказуемости, новым экономическим инициативам крупнейших игроков на мировом рынке, а также действиям участников конфликтов в горячих точках мира. Как признание непреложного факта звучат мнения о возврате времен геополитики и упадке основных идеологий, ранее во многом расставлявших ориентиры и в партийно-политической жизни стран с конкурентными партийными системами, и в соперничестве сверхдержав на международной арене.
Однако столь ли бесспорен тезис о снижении роли идеологий в современном мире или даже о завершении эпохи идейного противостояния, особенно громко звучавший после распада СССР? Не кроется ли за внешним отступлением идейной борьбы под натиском realpolitik глубокое переустройство идеологических систем, прежде всего либерализма – стержневой идеологии проекта Модерна? Одно из наиболее перспективных направлений поиска ответа на поставленный вопрос – это обращение к дискуссиям, которые велись и ведутся в настоящее время в «теоретической лаборатории» современного либерализма. Проникновение в ее сложное наполнение предполагает знакомство с позициями и подходами многих авторов, участвующих в дискуссиях и излагающих различные, порой весьма далеко расходящиеся точки зрения. Но правомерен и другой подход: панорамный взгляд позволяет за многообразием аргументации выделить некоторые важнейшие черты картины современных идеологических процессов. Многое можно понять также, определив, как видят авторы, получившие наибольшее признание в качестве ведущих теоретиков либерального направления, свою роль, становятся ли их концептуальные наработки предметом общественно-политических дискуссий, находя так или иначе отражение в партийных программах и, в конечном счете, в политической практике. Подобного рода анализ, несомненно, предполагает определение характера самой «теоретической лаборатории» и ее места в многоплановой конструкции либеральной идеологии.
Если говорить в историческом плане, то необходимо в первую очередь зафиксировать важнейшее обстоятельство – феномен идеологии сформировался в период Модерна как изоморфная монотеистической религии цельная секуляризованная мировоззренческая система, как «обмирщенная религия». Идеология в своей развернутой фазе в соответствии с духом времени заявляла о себе как о теории, как о сумме идей и положений, соответствующей канонам научного знания с его доказательностью, логической непротиворечивостью и подтверждаемостью опытом. Однако под рационалистическим оформлением ключевых концептов идеологии, как бы строго и последовательно оно ни выдерживалось, лежало и лежит религиозное, метафизическое по своему характеру и генезису содержание. Именно это содержание определяет жизненную силу идеологии, ее способность генерировать социальную энергию, определять направленность качественных социально-политических преобразований и создавать глобальные проекты. Основу идеологии, в полной мере способной выполнять функцию «обмирщенной религии», в конечном счете, всегда составляет сюжет о борьбе добра и зла, о пути к спасению и о нахождении «больших смыслов» в жизни индивида и народа – иначе идеология не имеет мобилизующей силы, способной двигать развитие. В данном отношении, заметим, не вполне обоснованным представляется выделение в качестве трех основных идеологи- ческих систем Модерна либерализма, социализма и консерватизма. Здесь за основу типологизации, как правило, берется базовый критерий – отношение к развитию, к переменам. Подобный ход допустим при решении определенного круга исследовательских задач. Тем не менее по своей глубинной природе только либерализм и социализм в полной мере являются политическими идеологиями современности – лишь они имели собственную светскую метафизику (в социализме – носившую неявный характер), в то время как консерватизм в различных его вариантах был склонен опираться на собственно религиозную традицию.
Применительно к либерализму и к проекту Модерна в целом тезис об их укорененности в протестантизме не нуждается в дополнительном развернутом обосновании – достаточно обратиться к классическим работам М. Вебера и Т. Карлейля, показавшим глубокую связь протестантизма с экономическими и политическими институтами современного Запада. По афористическому заключению Т. Карлейля, «протестантизм – корень огромных размеров; из него растет и ветвится вся наша последующая европейская история» [Карлейль 1994: 102]. В анализе Реформации как истока современности основное место, как правило, отводится идее всеобщего священства, презумпции доверия к разуму, императиву свободы совести, «мирской аскезе» и другим аспектам протестантских учений, выразившим на языке теологии то, что впоследствии в политикоправовых учениях Т. Гоббса и Дж. Локка было сформулировано в концепциях естественного права и общественного договора, а в производственных практиках стало особым отношением к различным видам мирской деятельности как средству выявления и подтверждения «избранности к спасению». Однако при акценте на роли протестантизма в зарождении идейно-политических и правовых установок либеральной мысли необходимо зафиксировать другой важнейший момент: сохранение либеральной идеологией в качестве «светской религии» вертикальной ориентированности на высшие смыслы и убежденности в поступательном движении истории, что на предельных уровнях и задает общность структуры идеологии и религии.
Эта общность отчетливо проявлялась и в базовых чертах модели переноса теоретических разработок в общественно-политическую деятельность и практику. Они определялись главным образом самой природой проекта Модерна, который для целого ряда теоретиков, включая, скажем, Ю. Хабермаса, выступает синонимом понятия Просвещения. При всех оговорках о как минимум дискуссионном характере такого отождествления следует признать, что оно позволяет выявить основные типологические черты деятельности «теоретической лаборатории» либерализма, сложившиеся в классический период. Если прибегнуть к метафоре, такую деятельность можно назвать миссией проповеди и просвещения, обращенной к разуму каждого индивида.
Миссия проповеди, несомненно, находила наиболее полную реализацию в жизненных траекториях деятелей Реформации, периода, к которому восходит рождение современного Запада. Судьба реформаторов могла быть отмечена трагическим исходом – как у Т. Мюнцера и У. Цвингли – или, при всем накале и драматизме духовных исканий, складываться вполне благополучно, как у М. Лютера, но в любом случае их проповеди получали огромный отклик во всех сословиях – от социальных низов до правящих слоев. Авторы, облекавшие протестантские идеи нравственной автономии индивида в теоретические трактаты, – Т. Гоббс, Г. Гроций, Дж. Локк – были сосредоточены преимущественно на интеллектуальном труде, лишь эпизодически принимая участие в общественно-политической жизни своего времени. Тем не менее их труды на десятилетия задавали идеологический дискурс (в постмодернистском пони- мании) периода становления либеральных институтов и практик, начиная от обсуждения норм политического представительства до регулирования отношений церкви и государства. Прочное сопряжение идей протестантизма и классического либерализма, с одной стороны, и социально-политических практик – с другой, определялось содержанием и направленностью исторических перемен – экономических, социальных и политических, в целом восходящей исторической динамикой проекта Модерна. Формирующийся, а затем осознавший свои интересы политический субъект Модерна получил идеологию, задающую контуры и смыслы проекта переустройства общества, а теория – живое осуществление в политических и экономических институтах и практиках.
Современная «теоретическая лаборатория» либерализма – это нечто принципиально иное по важнейшим параметрам, дающим основание говорить о ее как минимум неклассическом, как максимум – вполне постмодернистском характере. Ее содержательное наполнение в значительной мере определилось в период «больших дебатов» начала 70-х гг. ХХ в. и с тех пор не было отмечено сколько-нибудь значимыми теоретическими новациями. Если обратиться к работам, в которых дается обобщенный взгляд на картину теоретического поля либерализма, то в них на протяжении уже не одного десятилетия в том ли ином сочетании повторяются имена Дж. Ролза, Р. Дворкина, И. Берлина, У. Кимлики, Дж. Раца, М. Сэндела, М. Уолцера, А. Макинтайра, Р. Рорти и ряда других, не столь широко известных исследователей. Что касается концептуальной стороны, то ее составляют дебаты вокруг нескольких неизменных тем. Среди них идеи негативной и позитивной свободы, соотношение индивидуалистических и коммунитарных составляющих в определении природы человека и общества, в формировании культуры и основных социальных институтов, правомерности и пределов ограничения частной собственности, универсальности норм демократии и возможности их утверждения в обществах с различной историкорелигиозной традицией [Moon 2014; Liberalism at the Crossroads… 2003]1.
В этой системе теоретических построений центральное место, несомненно, принадлежит концепции Дж. Роулза. Его теория справедливости давно стала не просто классикой либеральной мысли, но и точкой отсчета, от которой так или иначе отталкиваются все авторы независимо от того, ведут ли они полемику с представителями либерализма, или, напротив, их идеи лежат в русле данного направления. Идейному наследию Дж. Роулза в целом и его самой влиятельной работе в особенности посвящено множество статей и монографий [Rawls's Political… 2015; Алексеева 2000]. Но при всем непреходящем интересе к теоретическим разработкам Дж. Роулза за пределами внимания исследователей обычно остается вопрос, сохраняет ли современный либерализм в том его варианте, который был предложен и обоснован в теории справедливости, качества политической идеологии, в полной мере присущие классическому либерализму.
Квинтэссенцию концепции Дж. Роулза составляет максима, согласно которой «все общественные первичные блага: свобода и возможность самореализации, доход и благосостояние, социальные предпосылки самоуважения людей – должны распределяться поровну, если только неравное распределение некоторых или всех этих благ не послужит выгоде тех, кто находится в наименее благоприятном положении» [Rawls 1971: 303]. Собственно, есть все основания назвать этот тезис предельно концентрированным выражением «духа 1960-х гг.». В этот период одновременно идут несколько процессов, основными из которых выступают, во-первых, усиление активности различных меньшинств, требую- щих обеспечения реального равенства прав, и, во-вторых, постоянное повышение ожиданий в отношении «государства благосостояния» и принятых в его рамках программ перераспределения доходов, обеспечивших в кратчайшие по историческим меркам сроки формирование так называемого среднего класса. Сочетание этих процессов на очень сжатом отрезке времени в итоге дало кумулятивный эффект резкого роста политического участия. Было понятно, что система достигла «точки бифуркации»: или дальнейшее развитие уже проявившихся и постоянно нараставших тенденций должно привести к ее качественным изменениям, или им будет поставлен заслон, и начнется обратное движение. То направление либерализма, к которому принадлежит Дж. Ролз, выбрало первый вариант ответа на запрос 1960-х: его теория сформулирована как своего рода оптимистическая манифестация возможности достижения обществом некоего совершенного состояния, в котором обеспечен баланс интересов, в полной мере соответствующий требованиям справедливости. Что при этом дает основание рассматривать концепцию Дж. Ролза в качестве заявки на новое кредо именно либеральной мысли, отвечающее социальным ожиданиям «бурных 1960-х», – это ее базовая идея нравственной автономии личности, условием обеспечения которой и выступает обоснованный в «Теории справедливости» способ распределения общественных благ.
На первых же шагах дискуссии, развернувшейся после публикации работы Дж. Ролза, было отмечено, что его концепция отличается принципиальной неопределенностью в отношении устройства общества и той политики, которая позволила бы реализовать принципы справедливости на практике. В отличие от него, ряд авторов, разделяющих общую идею справедливости в интерпретации Дж. Ролза, сделали выводы практического плана. Они заключили, что принятые в 1950–1960-х гг. программы «государства благосостояния» могли бы при условии постоянной оценки их влияния на положение различных социальных групп и более детального приспособления к нуждам этих групп обеспечить постулируемое теорией равенство. Однако таких мер недостаточно – концепция Дж. Ролза, если строго ей следовать, «требует, чтобы каждый человек начинал свою жизнь, имея равную с другими долю общественных ресурсов», а это предполагает, что любым программам выравнивания доходов «должно предшествовать единожды проведенное радикальное перераспределение богатства и собственности» [Современный либерализм… 1998: 180].
По сути, столь далеко идущие выводы, которые сам Дж. Ролз не опровергал, предопределили последующую историю «теоретической лаборатории» либерализма. По словам У. Конноли, с этого момента неготовность пожертвовать либеральными принципами у Дж. Ролза и его сторонников «во все большей степени дополняется отходом от решения практических вопросов… этот принципиальный либерализм не чувствует себя уютно в цивилизации продуктивности, но и не готов оспаривать ее гегемонию» [Connolly 1984: 233]. Соглашаясь с выводом У. Конноли, заметим только, что термин «цивилизация продуктивности» использован им как такой же эвфемизм, как и «рыночная экономика», названный Дж. Гэлбрейтом в его последней работе «Экономика невинного обмана: правда нашего времени» неопасной альтернативой термину «капитализм». Поскольку термин «капитализм» стал неприемлемым в силу резко отрицательной коннотации, была найдена альтернатива – «рыночная система». Это выражение не имело негативной истории: «впрочем, – как говорит Дж. Гэлбрейт, – у него вообще не было истории. Вряд ли можно было отыскать термин, более лишенный всякого смысла, – и выбор был сделан» [Гэлбрейт 2009: 22-23].
Выбор был сделан и теми представителями либеральной теории, которые стремились сохранить гуманистический потенциал классического либерализма, но интеллектуальная добросовестность не позволяла им, игнорируя более чем вековую социалистическую традицию, продолжать следовать великой для своего времени иллюзии о трудовой природе собственности, присущей раннему этапу классической либеральной мысли. Теория Дж. Ролза обозначила рубеж, на котором строго в рамках современной либеральной мысли было показано, что гуманистическая идея личностного самоопределения, заявленная в протестантизме и классическом либерализме как важнейшее для них требование свободы совести, ведет к принципиальным социально-экономическим решениям, выходящим за рамки существующей системы. В таких условиях ответом «теоретической лаборатории» либерализма на необходимость сколько-нибудь определенного политического позиционирования стала самоизоляция от политики и подчеркнутый поворот к формализованным изысканиям, лишенным какой-либо направленности на поиск путей переустройства общества, что разительно отличается от классического периода, когда идея и практика были теснейшим образом связаны друг с другом. Идейная и политическая инициатива оказались отданными неолиберализму, вскоре концептуально заявившему о себе в известном докладе Трехсторонней комиссии «Кризис демократии», подготовленном в 1975 г. С. Хантингтоном, Дз. Ватануки и М. Крозье.
За столь быстрой и полной уступкой неолиберальному курсу, предельно точно и емко названному американским исследователем К. Лэшем «восстанием элит и предательством демократии», несомненно, стояла решимость господствующих групп остановить опасные для них процессы и удержать власть. В то же время доминирование неолиберализма не могло не иметь внутренних причин, порожденных теми изменениями, которые претерпела либеральная теория в постклассический период [Лэш 2002]. Важнейшее среди этих изменений – отказ от различения высших смыслов, с одной стороны, и широко понятых, но исключительно секулярных интересов – с другой. В протестантизме и наследовавшем ему классическом либерализме свобода совести имеет определяющее значение не сама по себе, но как обязательное условие нравственной ответственности индивида, сознающего свою греховность, но полного решимости сделать все, что в его силах, для движения к недостижимому идеалу и, тем самым, для подтверждения своей избранности к спасению.
В начале своего исторического пути либерализм был ориентирован на идеи возвышения человека над собственной ограниченностью, на создание таких институтов, которые призваны сохранить свободу и усовершенствовать дух народа, как об этом, например, размышлял Т. Джефферсон [Джефферсон 1969: 64]. Смысл жизни индивида и народа выявлялся ориентацией на сакральную вертикаль, ведущую, в пределе, к спасению. Именно эта разность потенциалов между полюсами сакрального и профанного задавала динамику развития – истории как таковой, исторической судьбы народа и жизненной траектории индивида.
Постклассический либерализм исходит из равноценности всех устремлений и образов жизни и, в концепции Дж. Ролза, считает главной задачей определение «честных долей», предоставляемых каждому индивиду для реализации этих устремлений. Иными словами, никаких целей за пределами утилитарной заботы индивида о своем благосостоянии он не признает. На поверхности Дж. Ролз и его сторонники наследуют либеральной классике, также утверждавшей свободу выбора жизненных целей и преследования частного интереса. Фактически же речь идет о фундаментальном сдвиге – отказ от различения сакрального и профанного влечет за собой отказ от проекта Модерна в целом со всеми его важнейшими смысловыми и ценностными составляющими: от идеи истории, понимания народа как общности, объединенной призванием, высшими целями и исторической судьбой, до веры в способность человека преодолевать свою греховность. Для постклассического либерализма нет напряжения между полюсами сакрального и профанного, не существует исторической драматургии борьбы добра и зла, а, следовательно, сам постклассический либерализм утрачивает характер идеологии и способность выполнять ее функции. В этих условиях «теоретическая лаборатория» либерализма окончательно уходит из идеологического поля, молчаливо признав свою неспособность ответить на вызовы истории.
Список литературы "Теоретическая лаборатория" современного либерализма
- Алексеева Т.А. 2000. Современные политические теории. М.: РОССПЭН. 479 с
- Гэлбрейт Д.К. 2009. Экономика невинного обмана: правда нашего времени. М.: Европа. 88 с
- Джефферсон Т. 1969. Заметки о штате Вирджиния. - Американские просветители. Избранные произведения в двух томах (пер. с англ.) М.: Мысль. Т. 2
- Карлейль Т. 1994. Теперь и прежде. М.: Республика. 415 с
- Лэш К. 2002. Восстание элит и предательство демократии (пер. с англ. Дж. Смити, К. Голубович). М.: Логос; Прогресс. 224 c
- Современный либерализм: Ролз, Берлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон (пер. с англ. Л.Б. Макеевой). 1998. М.: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция. 248 с
- Connolly W. 1984. The Dilemma of Legitimacy. - Legitimacy and the State (ed. by W. Connolly). Oxford: Blackwell
- Moon J.D. 2014. John Rawls: Liberalism and the Challenges of Late Modernity. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 160 р
- Rawls J. 1971. Theory of Justice. London: Oxford University Press
- Rawls's Political Liberalism (ed. by T. Brooks, M. Nussbaum). 2015. N.Y.: Columbia University Press. 224 p