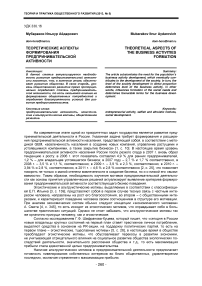Теоретические аспекты формирования предпринимательской активности
Автор: Мубараков Ильнур Айдарович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 5, 2013 года.
Бесплатный доступ
В данной статье актуализируется необходимость развития предпринимательской активности населения, что, в конечном итоге, обеспечивает развитие общества. В свою очередь, уровень общественного развития прямо пропорционально определяет степень предпринимательской активности, то есть оказывает влияние на формирование общественных потребностей и определяет благоприятность условий для развития предпринимательства.
Предпринимательская активность, эгоистические и альтруистические мотивы, общественное развитие
Короткий адрес: https://sciup.org/14935395
IDR: 14935395 | УДК: 330.16
Текст научной статьи Теоретические аспекты формирования предпринимательской активности
Summary: The article substantiates the need for the population’s business activity development, which eventually contributes to the development of the society. In turn, the level of the society development in direct proportion determines level of the business activity, in other words, influences formation of the social needs and determines favourable terms for the business development.
На современном этапе одной из приоритетных задач государства является развитие предпринимательской деятельности в России. Указанная задача требует формирования и расширения предпринимательской активности населения, представляющей собой, в соответствии с методикой GEM, «вовлеченность населения в создание новых компаний, управление растущими и устоявшимися компаниями, а также закрытие бизнеса» [1, с. 10]. В настоящее время уровень предпринимательской активности населения России после резкого спада в 2007 г. вновь обрел тенденцию к росту: в 2006 г. этот показатель составлял 4,9 % для ранних предпринимателей, 1,2 % – для владельцев устоявшегося бизнеса; в 2007 году – 2,7 % и 1,7 % соответственно, в 2008 г. – 3,5 % и 1,1 %, соответственно; в 2009 г. – 3,9 % и 2,3 %, соответственно; в 2010 г. – 3,94 % и 2,8 %, соответственно, в 2011 г. – 4,6 % и 2,8 % соответственно [2, с. 25], что позволяет говорить не только о малой степени вовлеченности в создание бизнеса, но и о низкой его «выживаемости». Таким образом, необходимость изучения мотивов предпринимательской деятельности как основы принятия управленческих решений актуализирует выявление критериев формирования предпринимательской активности соответствующего бизнес-поведения.
Эгоистические и альтруистические мотивы, выделяемые в соответствии с классификацией Е.П. Ильина [3, с. 139], представляют собой в первом случае тесную связь с частным интересом человека, направлены на рост его благосостояния, во втором – с общественными интересами, и характеризуют поведение человека своим соотношением в структуре его мотивации. При анализе экономических систем обычно следуют концепции «экономического человека» А. Смита [4, с. 345], то есть исходят из эгоистических мотивов, что оправдывает себя в большинстве практических ситуаций. Однако не стоит забывать, что альтруистические мотивы так же органично присущи человеку, как и эгоистические.
Согласно исследованиям Г.Ф. Шафранова-Куцева, который пишет, что «сегодня в России новые владельцы крупных состояний на первый план ставят престижное личное потребление, выделяют средства в основном на PR-акции, на поддержку политических партий, то есть на первом плане – эгоистические, тщеславные мотивы» [5, с. 26], в настоящее время в обществе преобладают эгоистические мотивы, что обуславливает перекосы в развитии экономики, не учитывающей отрицательного влияния на социальное развитие общества экологических последствий деятельности, значительного расслоения общества и т.д., то есть максимизация прибыли стала единственной целью предпринимательства.
Наличие альтруистических мотивов в предпринимательской деятельности предполагает готовность нивелирования собственных интересов во благо общественных, удовлетворении последних, исключая стремление к максимизации прибыли.
Различные аспекты существования альтруистических и эгоистических мотивов, их влияние на развитие государства подвергались активным исследованиям. Родоначальник теории рационального эгоизма, Аристотель, выдвигает тезис, что «добродетельному надлежит быть себялюбом», и объясняет самопожертвование через максимальное удовольствие, связанное с добродетелью [6, с. 54-77]. Платон писал, что воплощение в жизнь принципов идеального государства затруднено приоритетом у населения эгоистических мотивов [7]. Шопенгауэр считал, что человек – стремящееся к господству над всем миром разумное биологическое существо, то есть существо эгоистическое, а человеческая жизнь – это борьба за существование. В этой борьбе «индивидуумы, движимые волей, не только утверждают свое бытие, но и отрицают бытие других, стремятся его подавить там, где оно стоит на пути» [8, с. 339]. Соответственно, по мнению А. Шопенгауэра, так как жизнь есть вечная борьба, то быть личностью – значит быть эгоистом. В поздних работах Л. Фейербаха теория рационального эгоизма получила более подробный анализ. По его мнению, нравственность основывается на чувстве собственного удовлетворения от удовлетворения других. Основной моделью служат взаимоотношения полов, с поправкой на разную степень непосредственности удовольствия. Раз счастье Я необходимо предполагает удовлетворение Ты, то стремление к счастью, как самый мощный мотив, способно противостоять даже самосохранению [9, с. 81].
Н.Г. Чернышевский формирует свою теорию рационального эгоизма на особой антропологической интерпретации эгоистического субъекта, согласно которой подлинное выражение полезности, равнозначной добру, состоит в «пользе человека вообще» [10, с. 392], исходя из чего, при столкновении общечеловеческого и частного интересов должен превалировать общественный. Однако, по его мнению, в силу жесткой подчиненности человеческой воли внешним обстоятельствам и невозможности удовлетворения высших потребностей до момента удовлетворения простейших рациональная коррекция эгоизма эффективна лишь совместно с реструктуризацией общества.
Кроме того, не нарушающее общезначимых запретов стремление к собственной пользе способствует пользе других, то есть является разумным. Указанные положения относятся к протестантской хозяйственной этике М. Вебера, идее «объективно безличной» любви к ближнему, тождественной исполнению своего профессионального долга [11, с. 81]. Переосмысление в категориях личного интереса предпринимателя создает представление о спонтанной гармонизации эгоистических наклонностей в рамках экономической системы.
Аналогичное понимание теории рационального эгоизма свойственно А. Смиту (концепция «невидимой руки» [12, с. 169]), Ф. фон Хайеку (концепция «расширенного порядка человеческого сотрудничества» [13, с. 89]) и другим. Необходимо отметить, что не существует общества, в котором функционируют только альтруистические или эгоистические мотивы предпринимательского поведения: всегда наличествуют оба их вида, что актуализирует вопрос их оптимального соотношения. По мнению К.А. Гельвеция, рациональный баланс между общественным благом и эгоистическими мотивами индивида не может сформироваться естественным образом. Необходимо стимулирующее действие государственной власти, что позволит разработать законодательство, обеспечивающее пользу «возможно большего числа людей» и «основывающего добродетели на выгоде отдельного индивида» [14, с. 45-68]. Таким образом, в формировании рационального баланса между альтруистическими и эгоистическими мотивами граждан роль государства является определяющей.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что государство должно стремиться к активизации предпринимательской деятельности в стране, формируя альтруистические мотивы предпринимателей и соответствующее их поведение на основе экономической заинтересованности. В соответствии с современной концепцией общих ценностей (М. Портер, М. Креймер) [15, с. 34-52], задача государства заключается не в том, чтобы принудить бизнес к благотворительности или выполнению норм социальной ответственности, а чтобы с помощью экономических рычагов мотивировать бизнес, преследуя собственные выгоды, действовать в общественных интересах.
Для осуществления предпринимательской деятельности необходима соответствующая законодательная база, обеспечивающая ограниченную свободу предпринимательства, легализующая формы и виды предпринимательской деятельности и т.д., что обеспечивает получение прибыли, необходимой, с одной стороны, для повышения качества и уровня жизни, с другой – как показателя успешности реализуемого проекта. Вопрос эффективности предпринимательского поведения для его носителя определяется результативностью действий по реализации предпринимательской идеи, что оказывает значительное влияние на рост возможностей общества и его развитие.
Ссылки:
-
1. Верховская О.Р., Дорохина М.В. Глобальный мониторинг предпринимательства: Россия 2011. СПб., 2011.
-
2. Там же.
-
3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб., 2002.
-
4. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. М., 2009.
-
5. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 1. М., 1990.
-
6. Аристотель. Сочинения: В 4 т. (серия «Философское наследие). М., 1983. Т. 4 / ред. и вступ.ст. А. И. Доватура,
-
7. Платон. Государство. URL: www.info/bogoslov_Buks/Philos/Platon/Index.php .
-
8. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1990. Т. 1.
-
9. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии / с прил.: К. Маркс. Тезисы о Фейербахе. М., 1989.
-
10. Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Чернышевский Н.Г. Собр. соч.: В 5 т. М., 1974. Т. 4.
-
11. Вебер М. Избранные произведения: пер. с нем. / сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова, предисл. П.П. Гайденко. М., 1990.
-
12. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. М., 2009.
-
13. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992.
-
14. Момджян Х.Н. Философия Гельвеция. М.,1995.
-
15. Портер М., Креймер М. Капитализм для всех // HarvardBusinessReview. Россия. 2011. Март. С. 34–52.
Ф. Х. Кессиди. С. 54–77.