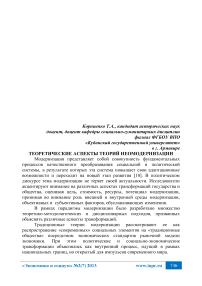Теоретические аспекты теорий неомодернизации
Автор: Корниенко Т.А.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 2-1 (7), 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140105328
IDR: 140105328
Текст статьи Теоретические аспекты теорий неомодернизации
Модернизация представляет собой совокупность фундаментальных процессов качественного преобразования социальной и политической системы, в результате которых эта система повышает свои адаптационные возможности и переходит на новый этап развития [10]. В политическом дискурсе тема модернизации не теряет своей актуальности. Исследователи акцентируют внимание на различных аспектах трансформаций государства и общества, оценивая цель, стоимость, ресурсы, потенциал модернизации, принимая во внимание роль внешней и внутренней среды модернизации, объективных и субъективных факторов, обуславливающих изменения.
В рамках парадигмы модернизации было разработано множество теоретико-методологических и дисциплинарных подходов, призванных объяснять различные аспекты трансформаций.
Традиционные теории модернизации рассматривают ее как распространение «современных» социальных элементов на «традиционные общества» посредством экономических стандартов рыночной модели экономики. При этом политические и социально-экономические трансформации объяснялись как внутренний процесс, идущий в рамках национальных границ, но открытый для импульсов современного мира.
Эти и другие теоретические аспекты традиционных теорий модернизации впоследствии подвергались острой критике:
– Идеи эволюционализма, в русле которых модернизация рассматривалась как линейный, стадиальный процесс, имеющий универсальный характер. Исследования сер. ХХ в. показали, что реальные процессы модернизации менее оптимистичны, чем это казалось классикам этой теории. При этом речь шла не только о существовании преград и барьеров, «трений в процессах исторического развития, но и высокой вероятности срывов модернизации, обратного движения, чередования, про- и контрмодернизационных процессов [7].
– Убежденность, что конечной целью модернизации выступает прогресс, поскольку внедрение инноваций и формирование новых институтов и моделей отношений сопровождались регрессом в тех или иных сферах общественной жизни.
– Излишняя вестернизация образа истории, представленная в эволюционных моделях, противоречащая между уникальностью Запада как особого культурного ареала и его модельной ролью для всего мира. В частности, С. Хантингтон приходит к выводу, что «модернизация не обязательно означает вестернизацию. Незападные общества могут подвергаться модернизации, не отказываясь от своих собственных культур и не принимая западных ценностей, институтов и форм поведения. Все это может оказаться почти невозможным: какие бы препятствия ни возникали перед незападными культурами в ходе модернизации, они не сравнятся с теми, которые возникают в отношении вестернизации» [15]. Модернизация, безусловно, предполагает, что существуют некие общие для всего мира тенденции, закономерности, благодаря которым традиционные общества превращаются в современные, но это сложное движение к современности ни в коем случае не есть примитивное превращение, например, Востока в Запад [9].
– Формальная заданность модернизационного сценария во всемирном масштабе, что приводило к отрицанию локальных моделей за пределами западной цивилизации. Модернизм продуцировал универсальные модели, в силу чего подавлял присущее традиционализму многообразие. В организационном отношении модернизация выражалась через процесс инволюций [2].
Возрождение научного интереса к проблемам модернизации было вызвано распадом биполярного мирового порядка, широким распространением сравнительных исследованием политических систем. Стали появляться новые концепции модернизации, в основу которых были положены идеи постмодернистов, теории зависимости, теории микросистем, эмпирически ориентированные исследования. Результаты широкого переосмысления теоретических основ модернизационного процесса связывают со стадией неомодернизационного анализа [5].
С начала 1970-х гг. складываются теории неомодернизации и неоконвергенции. Их авторы (Раймон Арон, Олвин Тоффлер, Гуннар Мюрдаль м др.) осознали значение социокультурных типов незападных стран для трансформаций.
Термин «неомодернизм» ввел в научный оборот Е.Тирикьян [17] для характеристики появившегося в условиях постмодернизации нового направления мысли, ориентирующего на повторение идей модернизации периода вхождения в современность самого Запада, реанимации представлений об освобождающей роли рынка. Модернизация стала рассматриваться как исторически ограниченный процесс, узаконивающий универсальную целесообразность лишь ограниченного набора институтов и ценностей современности: демократию, рынок, образование, разумное администрирование, самодисциплину, трудовую этику [10].
В рамках неомодернизма происходила переоценка некоторых теоретических аспектов модернизации:
-
1) Модернизация стала рассматриваться как исторически ограниченный процесс, узаконивающий универсальную целесообразность узкого набора институтов и ценностей современности. При этом высоко оцениваются цивилизационные и национальные модели политических и социально-экономических трансформаций. Так, Ахмед Абдель-Малек утверждает: «Всякая национальная социально-экономическая общность, достигшая оптимальной степени социальной зрелости, рассматриваемая как в сложившемся состоянии, так и на протяжении ее исторического развития, обладает своей спецификой. Нет, никогда не было, не может быть неспецифичных, т.е. универсальных, обществ и их нельзя даже представить на существующем уровне наших знаний о человеческом обществе» [11].
-
2) Был пересмотрен модернизаторский потенциал традиций. Анализ страновых вариантов модернизации выявил значительную степень их полиморфизма, неоднозначность взаимоотношений комплексов «традиционного» и «современного», а, соответственно, восточных и западных культур в широком спектре от гармоничного синтеза, симбиоза, взаимоадаптации до конфликта и отторжения. В процессах модернизации особую роль играют сложившиеся в обществе духовные ценности, трудовые ориентации, менталитет, «символические структуры» и тип сложившихся элит. Ш. Эйзенштадт признал, что разрушение традиционной политической системы само по себе не обеспечивает жизнеспособность новой. Напротив, часто крах традиционных отношений и институтов вел к дезинтеграции обществ и к хаосу [12].
-
3) Увеличилась значимость внутренних (эндогенных) духовнокультурных предпосылок модернизационных процессов. На начальном этапе становления теорий модернизации доминировало представление о вторичности социокультурного фактора в общей системе факторов, ответственных за социально-экономическое развитие и изменения. Со
второй половины ХХ века акцент в теориях модернизации устойчиво смещается в сторону значимости социокультурных феноменов, которые рассматриваются либо в качестве доминирующих, либо аналогичных по силе воздействия с экономическими и политическими (Р. Инглхарт, Ф. Фукуяма и др.) [4].
-
4) Усилился интерес к экзогенным факторам модернизации – геополитическим и внешнеэкономическим условиям развития; в научный оборот был введен термин «переферийная модерниазция». С. Амин отвергал широко распространенную на Западе теорию слаборазвитости трех южных континентов (Азии, Африки и Латинской Америки), в соответствии с которой феномен отсталости ассоциируется с традиционными патриархальными укладами «периферии», тогда как развитость «центра» связывается с модернизацией. Он относил к «центру», с одной стороны, Северную Америку, Западную Европу, Японию, Австралию, Новую Зеландию, Южную Африку, с другой стороны, Россию (т.е. СССР - Г.Н.) и Восточную Европу. С точки зрения С. Амина, неверно проводить аналогии между экономически слаборазвитыми странами и странами «центра» на их предшествующих стадиях развития, т.е. полагать, что «периферия» постепенно будет преодолевать отсталость путем освоения западного опыта [1].
-
5) Модернизационные процессы стали рассматриваться с позиций концепции исторических волн, предполагающей выделение этапов или циклов, повторяющих на новом витке основные тенденции предыдущих периодов.
Главным постулатом новой концепции модернизации явилось признание возможности многообразия моделей исторического развития, обуславливающего и различие траекторий модернизации в зависимости от стартовых условий, исторического опыта и особенностей культуры разных стран. Э. Тирикьян предлагает рассматривать модернизацию как сознательное развитие общества, основанное на принятых в нем целей, методах и общей стратегии преобразований, поэтому можно говорить о множественности сценариев модернизации, приемлемых для развития различных по структуре и характеру политических и социальных институтов [17].
На новом этапе, как сам концепт, так и специфика модернизации, не должна быть связана со слепым копированием европейских институтов в другие части света. Движения за национальную независимость, подъем новых наций, постоянная трансформация капиталистического общества, подъем различных форм планируемой экономики и слияние западных и незападных компонентов в процесс модернизации — все это сделало очевидным тот факт, что модернизация включает в себя разнообразие моделей, подверженных переменам. Очевидно и тот факт, что к модернизации ведут многие пути [13].
Идеологическая критика теорий модернизации и научное обоснование иных принципов изучения незападных культур означала изменение вектора исследования самобытности незападных стран и ее роли как в самоопределении этих стран, так и в их модернизации. Переориентация была связана с повышением значимости культурных факторов и, как следствие, со своеобразной заменой понятия «традиция» такими категориями как «самобытность» и «специфика» [3].
Начавшаяся в конце XIX в. борьба народов Азии, Африки и Латинской Америки за политический суверенитет и экономическую самостоятельность, быстрое ускорение этих процессов в результате побед национальноосвободительного движения в колониальных странах – все это означало отход от традиционного ориентализма. Неожиданно для себя как специалисты, так и общественность столкнулись с несоответствием концепций, научного аппарата и методов исследования реальной жизни [11].
Признание многовариантности развития «третьего» мира обусловило повышенное внимание к самими участникам исторических процессов, и как следствие на первый план вышли проблемы изучения самобытности как неевропейских культур, так и самой западной культуры, выяснения соответствия автохтонных ценностных установок и религиозных ориентаций обществ характеру современной экономической деятельности.
Ален Турен и Шмуэль Эйзенштадт признали эффективность самобытных моделей развития на основе синтеза национальных и мировых ценностей, институтов и отношений. Привился также термин «контрмодернизация», означающий повышение эффективности традиционной системы на основе ее ценностей, т.е. аллергическую реакцию незападных обществ на попытки насаждения западных стандартов политики [8].
Ш. Эйзенштадт указывает на «огромное институциональное разнообразие современных и осовременивающихся обществ», невозможность 100-процентного копирования западной демократии [12]. Ф.Риггз обращает внимание на феномен «переходного общества», длительно поддерживающего самобытные механизмы воспроизводства «политического порядка» и стабильности в условиях вестернизации [16].
Подобный взгляд в существенной мере меняет прежние линейные представления о модернизации. В повестку дня оказались внесены радикально иные подходы к самому процессу. Малазийский премьер Мохамад Махатхир утверждает, что азиатские страны могут и должны проводить «модернизацию без принятия всех или хотя бы части ценностей европейской цивилизации»: «…мы долго устремляли взор на Запад, но больше не считаем его подходящей для нас моделью»[15].
-
Э. Тирикян призывает отойти от традиционной модели модернизации, сквозь призму которой долгое время рассматривались преобразования в странах «незападного» политического процесса и обращает внимание на
множественность сценариев модернизации, приемлемых для развития различных по структуре и характеру политических и социальных институтов [17].
В современных синтетических концепциях (например, «социокультурной самобытности», «модернизация в обход модернити» и др.) модернизация рассматривается как исторически ограниченный процесс, узаконивающий институты и ценности современности: демократию, рынок, образование, разумное администрирование, самодисциплину, трудовую этику и т.д. Указывается, что успех модернизации возможен исключительно в условиях органичного сочетания современных рационально-технических ценностей и институтов с традиционными, самобытными основами незападных обществ, а учет социокультурной специфики является важнейшей исходной посылкой современных трансформаций. Выдвигается идея о множественности моделей модернизации для стран с различным общественным укладом (Ш. Эйзентшадт, Дж. Джермани), поэтому бессмысленно выстраивать единую модель или сценарий мировой модернизации, затронувшей практически все государства современности, но при этом можно проследить определенную схожую динамику эволюций идеологий, поддерживающих и оправдывающих преобразования социальных институтов.
Таким образом, модернизированная общественная система - это такая система, в которой в определенном синтезе и симбиозе существуют как элементы культуры, традиционной для того или иного общества, так и мощный и в некотором смысле господствующий пласт, связанный с принятыми от стран Запада нормами, правилами и социальноэкономическими и политико-культурными смыслами [6].
«Модернизация» в теориях неомодернизма выступает в своем прямом и наиболее распространенном смысле как заимствование и, соответственно, инкультурация и аккультурация западных норм и правил, представлений о власти и взаимоотношениях индивида и общества, общества и государства в традиционные культуры