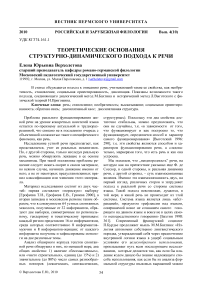Теоретические основания структурно-динамического подхода к речи
Автор: Верхолетова Елена Юрьевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 4 (10), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждается подход к описанию речи, учитывающий такие ее свойства, как необратимость, становление, социальная ориентированность, диссипация. Показаны возможности такого подхода, соединяющего диалогический метод М.Бахтина и исторический метод Л.Выготского с физической теорией И.Пригожина.
Речь, становление, необратимость, высказывание, социальная ориентированность, обратная связь, диссипативный хаос, диссипативная структура
Короткий адрес: https://sciup.org/14728894
IDR: 14728894 | УДК: 81'374.161.1
Текст научной статьи Теоретические основания структурно-динамического подхода к речи
Проблема реального функционирования живой речи на уровне конкретных носителей языка остается по-прежнему актуальной и трудноразрешимой, что связано не в последнюю очередь с объективной сложностью такого специфического феномена, как речь.
Исследование устной речи предполагает, как представляется, учет ее реальных механизмов. Но, с другой стороны, только исследуя реальную речь, можно обнаружить лежащие в ее основе механизмы. При такой постановке проблемы решение следует искать скорее в самом материале, во всяком случае, начинать движение именно от него, а не от некоторых предустановленных правил классификации или членения этого материала.
Материал исследования состоит из двух частей: первая составляет «пермскую» выборку [Ерофеева Т.И., Ерофеева Е.В., Грачева 2000], а вторая записана в московском регионе таким образом, что в совокупности 64 устных спонтанных монолога, полученные от 32 информантов, образуют две выборки, симметричные по региональному, гендерному и тематическому признакам: каждый регион представлен 16-ю информантами, среди которых соответственно 8 информантов-мужчин и 8 информантов-женщин; от каждого информанта получены и зафиксированы монологи на две различные темы.
Анализ обширного корпуса текстов спонтанной речи обнаружил в них, по меньшей мере, два общих свойства: 1) наличие «бессмысленных», или «чисто строительных», единиц (до 15%) и 2) значительное (до 80%) число самых разнообразных повторов (лексических, синтаксических,
структурных). Поскольку эти два свойства достаточно стабильны, можно предположить, что они не случайны, т.к. «в зависимости от того, что функционирует и как построено то, что функционирует, определяется способ и характер самого функционирования» [Выготский 1996: 290], т.е. эти свойства являются способом и характером функционирования речи, а следовательно, маркерами того, что есть речь и как она устроена.
Мы полагаем, что „неоднородность” речи, на которую как на препятствие указывал еще Ф. де Соссюр, в одной стороны, и реальная динамика речи, с другой стороны, – суть взаимосвязанные явления. Именно эта взаимосвязанность двух, на первый взгляд, различных сторон и затрудняет подход к реальной речи со стороны системы языка. Такой подход невозможен, думается, в той мере, в какой речь не происходит из этой системы. Система языка является лишь «абстракцией», продуктом «рефлексии над языком, совершаемой вовсе не сознанием самого говорящего на данном языке и вовсе не в целях самого непосредственного говорения» [Бахтин 1998: 361]. Современный французский социолог П.Бурдье продолжает мысль М.М.Бахтина: «Иллюзия автономии собственно лингвистического порядка, утверждающей себя через предпочтение внутренней логики языка в ущерб социальным условиям его целесообразного использования, прокладывает путь всем последующим исследованиям, которые делаются так, как если бы владение кодом давало бы знание надлежащего способа использования, как если бы из анализа формальной структуры языковых выражений можно
было вывести способы их использования и их смысл, как если бы правильный грамматический строй фразы был достаточен для производства смысла – короче, как если бы не знали, что язык предназначен для говорения и чтобы говорить о чем-то» (Здесь и далее курсив мой. – Е.В. ) [Бурдье 2001: 62-63]. В той же мере, в какой система языка не может подойти к неоднородности речи, она не может приблизиться и к реальной динамике речи.
Между тем отечественная мысль, восприняв в свое время у В. фон Гумбольдта его „энергейю”, стихийность языка-речи, не просто вплотную приблизилась, а разработала идею становления языка и речи. Если следовать мысли В. фон Гумбольдта и его последователя в России А.А.Потебни, говорящий реально существует в окружении «разрозненных стихий», «бессвязного хаоса». Язык заключает в себе также все «стихии, получившие уже форму», т.е. «совокупность слов и правил», но и эти стихии «только в живой речи становятся языком» [Потебня 1913: 24]. В таком понимании язык и речь оказываются неразрывно связанными: и язык, и речь «есть нечто постоянное, в каждое мгновение исчезающее», «язык … вечно создается», но становится при этом только в речи. Самым существенным, лежащим в основании того и другого, является идея становления.
Становление можно уловить, лишь учитывая, из чего, как именно и что становится. Мы полагаем, что линия развития идеи становления отчетливо прослеживается в концепциях Л.С.Выготского, опиравшегося во многом на идеи А.А.Потебни, и в работах М.М.Бахтина. Так, Л.С.Выготский развивает мысль А.А.Потебни: «…движение самого процесса от мысли к слову есть развитие. Мысль не выражается в слове, но совершается в слове. Можно было бы поэтому говорить о становлении (единстве бытия и небытия) мысли в слове» [Выготский 1996: 306]. М.М.Бахтин прямо исходит из того, что действительность языка и есть его становление [Бахтин 1998: 350].
Объективности ради нужно признать, что становление трудно уловимо и из-за отсутствия инструментов, позволяющих к нему приблизиться, акценты часто смещаются, т.е. изучается либо результат процесса, либо, коль скоро язык есть столько же деятельность, сколько и произведение [Потебня 1913: 29], – сама деятельность, выводимая технически все же из результата. При этом, какое бы явление ни описывалось как речевая деятельность, что бы при этом ни понималось под динамикой – процессы текстопорожде-ния и деривации, дискурс, динамика реплик диа- лога, – это всегда динамика некоторого изолированного текста, некоторой выделенной ситуации или типизированной структуры; в результате мы имеем идеализацию, не учитывающую, в частности, предшествующего развития и не предполагающую развития последующего.
Говоря о «зависимости способа и характера функционирования» от структуры, Л.С.Выгот-ский предвосхитил одну из идей современного естествознания: «…”природа” вещей, связанных между собой определенными отношениями, должна … проистекать из этих отношений, а сами отношения должны с необходимостью следовать из “природы” вещей» [Пригожин, Стенгерс 2008: 92]. Совпадение взглядов Л.С.Выготского и М.М.Бахтина основано на сходстве исторического подхода к человеку и его языку, ср.: «Под историчностью мы прежде всего понимаем н е -о б р а т и м о с т ь х о д а в р е м е н и, о д - н о к р а т н о с т ь судьбы, н еповтори- мость всякой ситуаци и. Во-вторых, мы понимаем под историчностью знание о том, что дело обстоит именно так, т. е. о с о з н а н - н у ю жизнь в однократности собственной судьбы» [Бахтин 1997: 315]. Переот-крытая же И.Пригожиным «стрела времени», описывающая неустойчивые и необратимые процессы, по его собственному выражению, «привносит в физику некий повествовательный элемент» [Пригожин, Стенгерс 2000: 61].
Коль скоро речь необратима, то это ее свойство не может не отражаться на возникающих при этом структурах и, следовательно, не может сбрасываться со счетов. Трудность состоит в том, что такое свойство, как «необратимость», не является предметом лингвистики. Возможно, что именно «необратимость во времени» понимал под «линейностью» Ф. де Соссюр: «Поскольку означающее развертывается во времени, то заимствует у времени и собственные признаки, как-то: протяженность и единственное измерение этой протяженности: линию» [Соссюр 2004: 80]. Но эпоха Соссюра была одновременно эпохой классической динамики, где «...прототипом универсального закона природы служит закон Ньютона, который ... имеет две фундаментальные особенности. Он детерминистичен: коль скоро начальные условия известны, мы можем предсказывать движение. И он обратим во времени: между предсказыванием будущего и восстановлением прошлого нет никакого различия; движение к будущему состоянию и обратное движение от текущего состояния к начальному эквивалентны», т.е. в этой концепции «…особенно ярко и четко запечатлен статичный взгляд на природу. Время низведено до роли параметра, будущее и прошлое эквивалентны» [Пригожин, Стенгерс 2008: 24]. Но «время не может возникнуть из невремени. Вневременные законы физики мы не можем считать подлинным «отражением» фундаментальной истины физического мира, ибо такая истина делает нас чужими в этом мире и сводит к простой видимости множество различных явлений, которые мы наблюдаем», кроме того, «…наш повседневный жизненный опыт показывает, что между временем и пространством существует коренное различие … Мы не можем переставить прошлое и будущее … это ощущение невозможности обратить время приобретает теперь точный научный смысл» [там же: 29]. Тот же повседневный жизненный опыт показывает, что реальная индивидуальная речь постоянно возникает и исчезает, т.е. в физическом смысле является необратимой. «Необратимость играет существенную конструктивную роль. Невозможно представить себе жизнь в мире, лишенном взаимосвязей, создаваемых необратимыми процессами … Мы дети стрелы времени, эволюции, но не ее создатели» [там же: 5].
Таким образом, необратимость речи с необходимостью погружает ее в систему сложных взаимосвязей и взаимозависимостей, т.е. речь – это процесс, осложненный в каждый момент времени процессами другого рода, а именно: взаимодействиями как «внешнего» порядка – между говорящим и внешней социальной средой, так и «внутреннего» порядка – между сознанием говорящего и произносимой речью, причем эти взаимодействия в том или ином виде не прекращаются никогда. «Процесс речи, понятый широко как процесс внешней и внутренней речевой жизни, вообще непрерывен, он не знает ни начала, ни конца. Внешнее актуализированное высказывание – остров, поднимающийся из безбрежного океана внутренней речи, размеры и форма этого острова определяются данной ситуацией высказывания и ее аудиторией » [Бахтин 1998: 393].
Можно сказать, что именно природа речи определяет способы ее существования, и обратно – способы ее существования есть отражение ее внутренней природы. Эта природа не может рассматриваться априори как искаженные или нарушенные механизмы языка, в особенности если последние формулируются извне, со стороны наблюдателя. Речь есть одновременно становление языка из «разрозненных стихий» и «бессвязного хаоса» и становление мысли из «безбрежного океана внутренней речи». Говорящий всегда в «эпицентре» этих «стихий». Без учета именно одновременности этих разнонаправленных взаимодействий невозможно приблизиться к пони- манию речи. Социальное и индивидуальное взаимодействуют в каждый момент речи и не могут быть механически разделены. Точно так же взаимодействие мысли и слова не сводимо ни отдельно к мысли, ни отдельно к слову. В самой идее становления заключены взаимодействия и их непрерывность. «Взаимодействие никогда не прекращается. Поэтому взаимодействия, существующие лишь в течение ограниченного промежутка времени, относятся к чисто модельным, идеальным ситуациям. Тогда как непрекращаю-щиеся взаимодействия свойственны большинству физически важных реалистических ситуаций» [Пригожин, Стенгерс 2000: 165].
Говорящий свободен в той мере и степени, в какой он «овладел» именно речью, при этом «степень осознанности, отчетливости, оформ-ленности переживания прямо пропорциональна его социальной ориентированности» [Бахтин 1998: 382]. Поэтому говорящий ориентируется в гораздо большей степени, чем принято думать, вовне, в мир социальный, из которого он, по мысли Бахтина, получает в артикулированном виде даже собственные психические переживания, что согласуется и с определением речи как «социального механизма поведения» Л.С.Выготским: «…человек не только связан с окружающей средой тысячами интимнейших связей – он сам является ее продуктом, его сущность – в сущности окружающей его обстановки» [Выготский 1996: 130]. В наиболее отчетливой и достаточно разработанной форме социальная основа речи выражена, на наш взгляд, в «диалогической» концепции М.М.Бахтина, которая помогает посмотреть на становление речи с уже, так сказать, приуготовленных позиций. « Язык есть непрерывный процесс становления, осуществляемый социальным речевым взаимодействием говорящих. Законы языкового становления отнюдь не являются индивидуальнопсихологическими законами, но они не могут быть и отрешены от деятельности говорящих индивидов. Законы языкового становления суть социологические законы» [Бахтин 1998: 395].
Говорящий не ориентируется в момент речи на правила и нормы языка. Равно как не ориентируется на них и слушающий, поскольку понимание в собственном смысле, согласно М.М.Бахтину, есть «ориентация в данном контексте и в данной ситуации, ориентация в становлении, а не ориентация в каком-то неподвижном пребывании …именно такое понимание в собственном смысле, понимание становления лежит в основе ответа, т.е. в основе речевого взаимодействия. Между пониманием и ответом вообще нельзя провести резкой границы. Всякое понимание отвечает, т.е. переводит понимаемое в новый контекст, в возможный контекст ответа» [там же: 363]. Общим для говорящего и слушающего является ориентация в данном социальном контексте и в данной социальной ситуации, но и сама ориентация развивается вместе с ситуацией речи и потому также становится.
Поскольку в основе любого взаимодействия человека с внешним миром, физическим или социальным, должен лежать один и тот же механизм, в общем виде обеспечивающий взаимодействия организма со средой, то можно принять за основу блестяще описанный в свое время П.К.Анохиным механизм обратной связи: «…ни одно действие организма вовне невозможно без предварительного сопоставления многочисленных внутренних и внешних сигнализаций.., т.е. без афферентного синтеза … организм ежеминутно и самостоятельно решает вопрос, что делать... причем решает… динамически, при всякой новой ситуации через стадию афферентного синтеза новых внешних воздействий» [Анохин 1980: 146]. Кроме того, при выполнении деятельности «организм … должен сам получить афферентные сигналы об успешности или неус-пешности всего акта в целом, т.е. должно произойти то обязательное следствие всякого акта.., которое мы в свое время назвали “санкционирующей афферентацией”» [там же: 87]. В общем виде каждое действие осуществляется в несколько фаз: афферентный синтез (ориентировка), действие, санкционирующая афферентация (контроль и оценка). Можно предположить, что речемыслительная функция, будучи значительно сложнее других функций организма, поскольку еще и опосредует многие другие функции, представляет собой сложный многофункциональный и тонкий аппарат с обратной связью, имеющийся только у человека. В процессе становления речи названные фазы не кажутся столь последовательными, скорее они пересекаются, накладываются друг на друга, лишь иногда позволяя себя обнаружить, что объясняется как функциональной сложностью механизмов речи, так и разным воздействием на самого говорящего различных отрезков речи или разных слов, т.е. обратным влиянием на последующую речь уже произнесенной речи.
Если учесть, что и внешняя ситуация, и внутреннее состояние, и произносимая речь, – все пребывает в неустойчивом, подвижном состоянии, да и сам «смысл слова … оказывается всегда динамическим, текучим, сложным образованием, которое имеет несколько зон различной устойчивости» [Выготский 1996: 347], нельзя не признать, что речь являет собой чрезвычайно сложный динамический процесс, развивающийся во всей своей сложности в реальном однонаправленном времени, что делает конкретную речь в известном смысле непредсказуемой не только для слушателя/наблюдателя, но и для самого говорящего.
При этом «сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. … Если мы сравнили выше мысль с нависшим облаком, проливающимся дождем слов, то мотивацию мысли мы должны были бы … уподобить ветру, приводящему в движение облака» [Выготский 1996: 357]. По мысли Бахтина, эта мотивирующая сфера является всецело социальной территорией и составляет вкупе с соответствующими ей внешними выражениями «жизненную идеологию» говорящего: «Жизненная идеология – стихия неупорядоченной и незафиксированной внутренней и внешней речи, осмысливающей каждый наш поступок, действие и каждое наше “сознательное” состояние» [Бахтин 1998: 386]. Мы снова возвращаемся к «стихиям», где нет и не может быть четкой границы между внешним и внутренним, т.к. граница эта также подвижна и изменчива и пролегает через сознание говорящей личности, а значит, и через его речь.
Неподготовленная речь, которую скорее можно назвать «стихийной», чем «спонтанной», лучше и наглядней, чем, например, подготовленная речь, демонстрирует процесс становления. Она есть непосредственная «объективация» становящейся мысли и, следовательно, «объективация» процесса преодоления стихий.
Мы полагаем, что источник происхождения мысли-речи, который у Выготского сравнивается с облаком, проливающимся дождем слов, равно как «бессвязный хаос слов и правил» Гумбольдта, речевой поток и «стихия неупорядоченной и незафиксированной внутренней и внешней речи» М.М.Бахтина, – все это, в сущности, попытки ухватить и определить стихию, текучий и подвижный речевой хаос, который есть сама неопределенность. Это не абсолютный хаос вроде шума, а хаос, состоящий из неупорядоченного скопления единиц разной сложности, которые при определенных условиях могут упорядочиваться и структурироваться. Этот хаос «соответствует промежуточной ситуации между чистым случаем и избыточным порядком» [Пригожин, Стенгерс 2000: 82] и называется «диссипативным хаосом». Это хаос мозговой активности, обусловленный постоянным взаимодействием с окружающей средой, пребывающей в столь же хао- тическом виде, упраздняется посредством слова, которое организует, упорядочивает эту активность, направляет ее, но может одновременно создать следующую зону неустойчивости. Причем «смысл хаоса состоит ныне не в том, что он ставит предел нашему знанию», в силу чего, в частности, невозможно было прежде использовать его для описания языка – «хаос позволяет по-новому сформулировать то, что нам надлежит познать…» [там же: 217]. Под названием «диссипативные структуры» принято понимать организованное поведение, которое возникает при необратимом взаимодействии с внешним миром, «…знаменуя поразительную взаимосвязь двух противоположных аспектов: диссипации, обусловленной порождающей энтропию активностью, и порядка, нарушаемого, согласно традиционным представлениям, этой самой диссипацией» [там же: 53].
Речь, следовательно, постоянно находится под давлением хаотической активности, идущей как извне, так и изнутри, и организована – упорядочена может быть в той мере, в какой ей удается организовать и упорядочить хаос, следы которого, тем не менее, всегда в ней присутствуют. Можно указать на следующие существенные моменты, которые позволяют рассматривать неподготовленную речь как «диссипативную структуру».
Во-первых, спонтанная речь отвечает «трем минимальным требованиям » И.Пригожина: «Первое требование – необратимость, выражающаяся в нарушении симметрии между прошлым и будущим … Второе требование – необходимость введения понятия “событие” ... третье требование, которое нам необходимо ввести: некоторые события должны обладать способностью изменять ход эволюции. Иначе говоря, эволюция должна быть “нестабильной”» [там же: 47-48]. Это согласуется с положениями М.М.Бахтина о том, что действительной реальностью языка-речи является социальное событие речевого взаимодействия, осуществляемое высказыванием [Бахтин 1998: 391], и что «реальными единицами потока языка-речи являются высказывания» [там же: 392]. Кроме того, индивидуальная спонтанная речь не подчиняется детерминистическим законам и одновременно не является «чистым случаем», как полагал Ф. де Соссюр, т.е. является как раз промежуточной ситуацией.
Во-вторых, «ситуации кризиса», когда «бессознательные процессы» попадают в поле внимания сознания и осознаются, а также задержки и торможения, которые соответствуют, вероятно, моментам «афферентного синтеза», можно рас- сматривать как «точки бифуркации», означающие переход из состояния равновесия (молчания) в состояние неравновесия (речи), – тогда «бессмысленные» в традиционном смысле элементы получат свой объективный смысл: «В точках бифуркации, т.е. в критических пороговых точках, поведение системы становится неустойчивым и может эволюционировать к нескольким альтернативам…» [Пригожин, Стенгерс 2000: 61].
В-третьих, понятие «языковой свободы» согласуется с утверждением о том, что «…сильно неравновесные связи существенно ограничивают разнообразие этого поведения по сравнению с априорной равновероятностью всех возможных режимов» [там же: 82], с той оговоркой, что ограничивается абсолютная свобода, т.е. хаос, а вовсе не языковая свобода реального говорящего, обусловленная именно владением нормой и правилами.
В-четвертых, согласно И.Пригожину, «для того чтобы хаос мог играть какую-то роль в “генезисе” информации, необходим механизм, позволяющий хаотической активности оставлять по себе “память”» [там же: 82]. Поскольку речь, отзвучав, практически исчезает, можно, за неимением пока других данных, считать «памятью» все повторяющиеся единицы, в физическом смысле являющиеся флуктуациями. Индивидуальная устная речь в своей внутренней (а отчасти и внешней) форме устроена таким образом, что вовсе не стремится исчезнуть, ее собственный внутренний механизм противостоит забвению, рассеянию, пресловутой «линейности». Это механизм всегда присутствующих в любой речи повторов (возвращений). В теории М.М.Бахтина именно повторимые и тождественные себе моменты являются значением высказывания. При этом «значение – не в слове, и не в душе говорящего, и не в душе слушающего. Значение является эффектом взаимодействия говорящего со слушателем на материале данного звукового комплекса. Это – электрическая искра, появляющаяся лишь при соединении двух различных полюсов … Только ток речевого общения дает слову свет его значения» [Бахтин 1998: 399] .
В-пятых, ключевым является понятие «аттрактора»: «…простое и сложное сосуществуют, не будучи связаны между собой иерархически. При исследовании того, как простое относится к сложному, мы выбираем в качестве путеводной нити понятие “аттрактора”, т.е. конечного состояния или хода эволюции системы… понятие аттрактора связано с разнообразием диссипативных систем. Априори у нас нет способов, позволяющих судить о том, что просто и что сложно» [Пригожин, Стенгерс 2000: 65]. Это очень близко по смыслу понятию «темы» у М.М.Бахтина: «Тема – сложная динамическая система знаков, пытающаяся быть адекватной данному моменту становления. Тема – реакция становящегося сознания на становление бытия» [Бахтин 1998: 397].
Мы полагаем, что аттрактор как «конечное состояние системы» соответствует теме М.М.Бахтина, тогда как аттрактор как «траектория» или как «ход эволюции» связан со значением . Ср.: «Тема высказывания, в сущности, неделима. Значение высказывания, наоборот, распадается на ряд значений входящих в него языковых элементов … Нет темы без значения, и нет значения без темы ... С другой стороны, тема должна опереться на какую-то устойчивость значения, в противном случае она утратит свою связь с предшествующим и последующим, т.е. вообще утратит свой смысл...» [там же: 396-399].
Таким образом, структурно-динамический подход придает иное значение и звучание всем элементам высказывания. Основной вывод может быть сформулирован следующим образом: речь, как необратимый процесс становления, есть неустойчивая динамическая структура, которая по совокупности своих признаков может быть отнесена к классу так называемых «диссипативных структур» и описана в соответствующих терминах в той мере, в какой это соответствует ее реальной природе.
Подход к живой речи с точки зрения ее реального становления и осуществления может существенно расширить возможности описания речи и пролить свет на многие частные вопросы как теоретического, так и практического характера.
TO THE THEORETICAL BASES
OF THE STRUCTURAL-DYNAMIC APPROACH TO SPEECH
Elena J. Verkholetova
Senior Lecturer of Romance-German Philology Department
Moscow State Pedagogical University
Список литературы Теоретические основания структурно-динамического подхода к речи
- Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы. М.: Наука, 1980.
- Бахтин М.М. Тетралогия. М.: Лабиринт, 1998. 608 с.
- Бахтин М.М. Собр. соч. В 5 т. Т.5. М.: Русские словари, 1997. 732 с.
- Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001. 562 с.
- Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1996. 416 с.
- Ерофеева Т.И., Ерофеева Е.В., Грачева И.И. Городские социолекты: пермская городская речь. Звучащая хрестоматия. Пермь-Бохум, 2000. 173 с.
- Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М.: КомКнига, 2005. 312 с.
- Потебня А.А. Мысль и язык. Харьков, 1913. 225 с.
- Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 240 с.
- Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 296 с.
- Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.