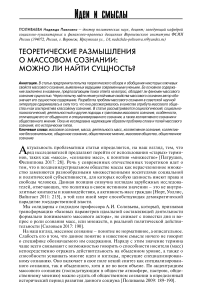Теоретические размышления о массовом сознании: можно ли найти сущность?
Автор: Поливаева Надежда Павловна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка теоретического обзора и обобщения некоторых ключевых свойств массового сознания, выявленных ведущими современными учеными. Ее основное содержание заключено в названии, предполагающем поиск ответа на вопрос, обладает ли феномен массового сознания сущностью. Через попытку найти некие устойчивые свойства массового сознания автор обозначает его сущностное содержание. Разработка проблем массового сознания в советской научной литературе сдерживалась в силу того, что оно рассматривалось в качестве атрибута массового общества и как альтернатива классовому сознанию. В статье рассматриваются социологический, социально-психологический, деятельностный и другие подходы к трактовкам массового сознания, особенности, отличающие его от обыденного и специализированного сознания, а также коллективного сознания и общественного мнения. Пока не исследована надлежащим образом проблема слоев и полей массового сознания, его исторических типов.
Массовое сознание, масса, деятельность масс, коллективное сознание, коллективное бессознательное, обыденное сознание, общественное мнение, массовое общество, общественное сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/170171374
IDR: 170171374 | DOI: 10.31171/vlast.v28i2.7151
Текст научной статьи Теоретические размышления о массовом сознании: можно ли найти сущность?
Мы солидарны с подходом профессора А.И. Соловьева, который, признавая трансформацию «базовых параметров идеальной составляющей деятельности формально понимаемого массового актора», не снимает с повестки дня и вопрос о роли сознания масс, или множеств, в реальной политической действительности [Соловьев 2017: 190].
На наш взгляд, массовое сознание – понятие не нормативное, а описательное. Слабость его в том, что данное понятие в известном смысле ничего не говорит о специфике обозначаемого им содержания. Наряду с этим значение термина чаще всего связывают с возможностью говорить о способности носителя (масс) непосредственно отражать действительность на обыденном уровне, а также о способности усваивать многие идеи и взгляды, присущие специализированному сознанию. Оно включает в свое поле некий синтез как специализированного сознания, так и обыденного, хотя и не во всем объеме. По акцентуациям массового сознания (господствующим в обществе атмосфере, настрою, общественному мнению) можно судить об общественном сознании в определенный исторический период развития данного социума [Поливаева 2009: 189-190].
По сути, самым распространенным взглядом на массовое сознание в отечественной социально-гуманитарной науке выступает приравнивание его к общественному мнению [Грушин 1967]. Этот подход характерен для прикладной социологии, которая изучает вербальные мнения и позиции с точки зрения частоты использования тех или иных формулировок респондентов. Общественное мнение «может пониматься как некое мнение, составленное из нескольких мнений, имеющих место в общественности, а лучше – как центральная тенденция, устанавливаемая в борьбе между этими отдельными мнениями и, следовательно, оформленная соответствующей силой противодействия, которая между ними существует» [Блумер 1994: 189]. Оно свидетельствует об актуальности какой-либо совокупности идей и представлений для общества в конкретной ситуации. Данная совокупность более значима по сравнению с другими существующими представлениями и суждениями.
Эмпирический анализ массового сознания не позволяет объяснить один из парадоксов функционирования феномена: идеи, взгляды, представления, являясь актуальными для значительной части членов общества, могут и не выражать реальное мнение большинства. Напротив, они могут складываться при определенных условиях под влиянием меньшинства (интеллектуалов, популярных лидеров, тех или иных партий и т.д.) [Любивый 1993: 103].
Изучение массового сознания в психологических теориях Г. Лебона, Ж. Сигеле, Г. Тарда, В. Бехтерева, Л. Войтоловского и др. привело к объяснению его как результата деятельности масс. Человек «массы» подчиняется общим законам функционирования массовых общностей. Любые социальноклассовые различия фактически исчезают в тех или иных массовидных процессах и действиях. Г. Лебон, рассуждая по этому поводу, образно говорил о том, что «толпа академиков равна толпе черни» [Лебон 1995: 161]. Тем самым ученый подчеркивал идентичные субъективные качества, свойственные массовым общностям при их образовании и функционировании.
В социальной психологии для интерпретации энергии психического напряжения, возбуждения применяется понятие «коллективное бессознательное». Так, например, Г. Тард отмечает, что масса начинается с соединения этой энергии внутри некой совокупности людей и порождения затем дополнительной энергии, которая останавливает, нейтрализует рационально-логические компоненты субъективной реальности индивида [Тард 1892: 67]. Психологическая общность индивидов выступает одним из наиболее ярких доказательств существования единого бессознательного первоначала, определяющего движение исторического процесса на том или ином этапе. Но данный подход, по сути, отождествляет массовое сознание и коллективную психологию.
Концепцию коллективного бессознательного по-своему развивал Э. Дюркгейм. В ней социолог анализирует социальную обусловленность коллективного сознания и его довлеющее воздействие на индивидуальное сознание. Коллективное сознание выражает вещественные, пространственные связи и отношения, существующие в реальной жизнедеятельности людей, выступает своеобразной субъективной проекцией этой жизнедеятельности в сфере индивидуальной психики [Дюркгейм 1991: 80]. Оно отличается от индивидуального сознания тем, что известное число состояний сознания является общим для всех членов одного и того же общества. Чем больше согласованы представления и верования, тем меньше они оставляют места индивидуальным расхождениям.
Исследуемое Э. Дюркгеймом коллективное сознание вероятнее следует соотносить не с групповым, а с общественным сознанием в целом [Гофман 1991: 564]. Вместе с тем важно подчеркнуть, что именно от Дюркгейма идет понима- ние коллективного сознания как надындивидуального феномена, имеющего собственное содержание, не сводимого к сумме индивидуальных сознаний.
Начиная с 1960-х гг., в российской философской и социологической мысли феномен массового сознания изучается в рамках деятельностного подхода. Главное в данном подходе, как известно, заключается не столько в анализе закономерностей развертывания субъективного мыслительного процесса, сколько в вычленении внешних параметров его проявления. Массовое сознание выделяется не в зависимости от его содержательных характеристик, когнитивных способностей и т.д., а на основе особенностей его носителя-субъекта. Иначе говоря, по мнению многих авторов, неустойчивость, синкретичность, пластичность феномена массового сознания не позволяет уловить его природу никаким иным способом, кроме как через его субъекта-носителя – массы, те или иные массовые объединения людей.
Специфическими свойствами масс являются статистический характер, сто-хастичность формирования, ситуативность существования и явно гетерогенная природа. Эти черты рассматриваются в качестве сущностных признаков. Из них вытекают определения массового сознания как эксгруппового (или межгруппового) сознания, сознания внеструктурных социальных образований – так называемых внеструктурных островов в групповой структуре социума, как бы плавающих в составе более широкого социального целого [Дилигенский 1986: 11, 14].
Ценность данной позиции заключается в том, что массовое сознание как бы вводится в систему реальной социальной деятельности индивидов. Перевод проблемы в плоскость практического действия открывает перспективы для исследования содержательных компонентов массового сознания, в т.ч. и для исследования его политических образований, реально влияющих на поведение различных категорий населения. Вместе с тем сами авторы данной точки зрения справедливо замечали, что «не каждый тип и вид массового сознания может быть “жестко” привязан к какому-то одному определенному типу и виду массовой общности» и что «некоторые типы и виды масс (телеаудитория, например) складываются на основе способов существования и деятельности данных общностей, но без использования характеристик их сознания» [Грушин 1994: 281].
Американский социолог Д. Белл подчеркивал, что многочисленные теории массового общества являются недостаточно четкими потому, что термин «массы» не совсем ясен. Пытаясь прояснить его, Д. Белл выделил пять основных значений: 1) массы как недифференцированное множество; 2) массы как синоним невежественности; 3) массы как механизированное общество; 4) массы как бюрократизированное общество; 5) масса как толпа [Малькова 1992].
Полагаем, что столь односторонний взгляд не исчерпывает содержания и особенностей масс, их поведения в различных общественно-политических ситуациях. Массы многослойны по своей структуре, противоречивы, способны к быстрым, неожиданным изменениям в одних направлениях и определенным «окостенениям» – в других. Масса всегда облечена в те или иные конкретные формы. Она не обязательно предполагает сбор (или сборище) множества людей на площади, улице, стадионе или ином пространстве. С точки зрения свойств сознания, приверженности определенным стереотипам поведения и рефлексиям человек может принадлежать массе, не выходя из собственной квартиры.
Масса отличается от беспорядочной толпы людей тем, что обладает единством идеи, настроения, воли и поведения. Содержание и направленность этих четырех компонентов могут быть самыми разнообразными. Главное, что они объединяют толпу в массу. Здесь можно привести такие примеры, как движение луддитов в Англии конца ХVIII – начала ХІХ в., еврейские погромы в России в начале ХХ в., суды Линча в США и т.д. В современную эпоху заметно интенсифицировался такой способ «раскачать» массу на бессмысленные выступления, как религиозный фанатизм (например, в Индии, Сирии) или воинствующий национализм (например, в Югославии или на Кавказе).
Итак, с одной стороны, массовое сознание проявляется только в деятельности массы, но, с другой – справедливо и то, что оно, как уже отмечалось, обладая некой самостоятельностью, способно определенным образом воздействовать на «поверхность» или «глубину» чувств, восприятия, эмоций людей. Фактически здесь возникают две сложные проблемы: проблема четкого разграничения самих коллективных (массовидных) проявлений, выявления специфики субъективных практик, релевантных этим проявлениям, и проблема внешних влияний, стимулирующих ту или иную практику. Именно эти проблемы обусловили ведущие направления исследования феномена массового сознания в современной западной социологии и социальной психологии. Речь идет о целом ряде концепций – концепции социальных представлений С. Московичи, одномерного мышления Г. Маркузе, атомизированного индивида Х. Арендт и Л. Бодрияра, восстания масс Х. Ортеги-и-Гассета, массовой коммуникации А. Моля, коллективного поведения Г. Блумера и т.п.
В этих концепциях феномен массового сознания интерпретируется через деятельность атомизированной массовой общности, возникшей в процессе коммуникационного взаимодействия в эпоху перехода от индустриального общества к постиндустриальному. Его характеристики варьируются от «хаоти-зированного», «разорванного», «свидетельствующего об эмоциональной фрустрации “Я”» (Л. Бодрияр) или «замкнувшегося на себе» (Х. Арендт) сознания до «формально рационализированного» (Г. Маркузе) сознания, в котором «плавятся» представления множества людей, оказавшихся под властью социального авторитета, перенесенного в область бессознательного (С. Московичи). Эпоха массового общества – это эпоха предельно стандартизированного, унифицированного образа мысли и деятельности миллионов людей.
Согласно Х. Ортеге-и-Гассету, в эту эпоху на арену истории вышел относительно новый тип человека – человек массы. Он делает специальную оговорку, что деление общества на массы и избранное меньшинство – это деление не на социальные классы, а на типы людей; это совсем не иерархическое различие «высших» и «низших»: в каждом классе можно найти и «массу», и настоящее «избранное меньшинство» [Ортега-и-Гассет 1989: 122].
Х. Ортега-и-Гассет делает вывод, что упадок элиты – трагедия ХХ в. Дихотомия «элита – масса» представляет собой норму жизни общества. Трагедия общества начинается там, где имеет место вторжение масс в управленческую и творческую деятельность элиты.
Концепция испанского философа, на наш взгляд, характеризуется чрезмерной акцентацией на негативных сторонах массы и массового сознания. Последнее рассматривается им исключительно как совокупность волевых импульсов, чувственных образов, настроений, влечений, эмоций и т.п.
В отечественной науке массовое сознание, как было отмечено ранее, понимается шире – как совокупность «самых разнообразных по их гносеологической и социальной природе духовных образований, не ограниченных лишь формами психики, относящимся к “разделам”, сферам, уровням… психологии и идеологии, эмоций и логики, образов и реакций, обыденного и теоретического знания, рациональных и иррациональных (в том числе фантастических) представлений и т.д.» [Грушин 1994: 286]. В него входят самые разнообразные идеи и представления: политические, экономические, нравственные, философские, эстетические и т.д. Более того, природу субъекта массового сознания отече- ственные исследователи правомерно рассматривают одновременно и как индивидуальную, и как групповую. Данный вид сознания проявляется и функционирует как на уровне личности, так и на уровне массовых общностей, отражая их потребности, интересы, ценности и цели. Иначе говоря, граждане, являясь членами разных социальных групп и вместе с тем – каких-либо массовых общностей и образований, одновременно представляют собой носителей массового сознания, оставаясь при этом «специфическими индивидуальностями». Это не означает, что содержание массового сознания всеохватно и беспредельно, – оно значительно проигрывает содержанию общественного сознания в целом и тем более содержанию совокупного индивидуального сознания [Грушин 1994: 305].
Массовое сознание (в т.ч. его политическую составляющую) можно определить как вид общественного сознания, выделяемый в составе последнего наряду со специализированным и групповым сознанием и связанный, как уже отмечалось, с функционированием особого рода социальных общностей – масс. В отличие от группового сознания, у него отсутствует некий содержательный стержень, обнаруживаемый, например, в классовом сознании, особенно при трансформации условий существования класса.
В массовом сознании уживаются как метафизические, так и диалектические стороны. Происходит это, вероятно, потому, что оно постоянно переживает периоды спада и подъема. В течение этих волн накапливается разнообразный социальный опыт. Именно он играет наиважнейшую роль в формировании и развитии массового сознания. Без учета его содержания нельзя понять конкретные модификации и формы выражения массовых умонастроений, представлений, взглядов и чувств.
Нелишне заметить, что понятие «массы» активно использовалось в трудах классиков марксизма. Марксисты ни в коей мере не преуменьшали внутреннюю дифференциацию обозначаемого этим понятием феномена. Они подчеркивали неоднородность масс, обращали внимание на тот факт, что массы «образуют внутри себя и между собой весьма массовые противоположности». Понятие «массы» имеет в работах классиков марксизма множество оттенков. Наряду с такими категориями как «массы класса», «широкие массы», в них присутствует, например, понятие «ограниченной массы», т.е. не охватывающей всей совокупности населения [Маркс 1956: 171]. Наряду с понятием «массы» в них широко используется в качестве своего рода синонима и такой термин, как «трудящиеся».
Хотя природа и свойства массового сознания плохо поддаются фиксации и описанию, ключевой проблемой политической науки остается овладение инструментами диагностики, оперативных и объективных замеров его у разных социальных групп и общностей. В этой связи важным теоретико-методологическим выводом, как считал Б. Грушин, является идея о необходимости различать: а) моментальные, меняющиеся характеристики массового сознания, которые проявляются в его отношении к отдельным объектам действительности; и б) глубинные, устойчивые свойства, проявляющиеся одновременно в отношении многих объектов. Но как это сделать, зависит от целого ряда факторов, в частности от исследовательских задач и концепций.
На наш взгляд, к устойчивым свойствам рассматриваемого феномена относится колоссальная роль веры и надежды на лучшее будущее, на осуществление справедливости, хотя бы когда-нибудь, и большей, чем есть в действительности. Это не означает, что массовое сознание всегда оптимистично. Дело в другом: в нем неистребима какая-то инвариантная тяга к лучшей, «более правильной» жизни. И состояние апатии, часто ему свойственное, подтверждает именно эту имманентную черту. Если вера не подкрепляется на практике, то массы впадают в пессимизм, уныние, снижающие их активную жизнедеятель- ность. Если же вера подпитывается какими-либо очевидными основаниями для ее реанимации или усиления, то она превращается в уверенность. Массы переживают состояние эмоционального воодушевления, которое, заметим, может иметь разную социально-политическую направленность.
Таким образом, понятие «массовое сознание» близко к понятию «общественное сознание». Переплетаясь, они зачастую заменяют друг друга в определенном контексте [Разум… 2017: 14, 161-163]. Выделяя главное в многочисленных определениях общественного сознания, можно сказать, что оно – высшая ступень абстракции, в нем создаются инварианты, которые обобщают и фиксируют лишь наиболее существенные отношения и связи практической деятельности; эти отношения и связи здесь приобретают форму законов, научных теорий, произведений искусства и т.д. Термин «общественное сознание» ориентирует внимание на «состояние умов в ту или иную эпоху» [Холодковский 2018: 177]. Массовое сознание же, являясь многомерным, неоднородным, крайне противоречивым образованием, фиксирует прежде всего эмоционально-чувственную (оценочную), психологическую сферу социума, ценностные ориентации и экспектации его сегментов.
Вместе с тем каждая ступень в исторической динамике российского общества сопряжена прежде всего с «революцией сверху», с переменами во властных структурах, с изменениями в политическом мышлении элиты. Применяя, как и любая другая элита, в своем отношении к массам политику кнута и пряника, российская власть все же гораздо последовательнее использовала силовые методы и средства для достижения своих групповых целей. В то же время авторитарный характер российской власти нередко сочетался с авторитарным комплексом в массовом сознании.
«Сущностное содержание», «смысловое ядро» применительно к массовому сознанию может весьма условно интерпретироваться как постоянное пульсирование между периодами спада (разочарования, апатии) и подъема (надежды и веры). Это пульсирование всегда обусловлено внешними изменениями, характером конкретно-исторических этапов развития общества. В современной России имеются веские объективные основания для вывода о том, что потенциал социальных настроений достиг той критической черты, когда массовое сознание становится восприимчивым к нарушению гражданско-правовых норм, а также одновременно и к радикальным сдвигам. Но достаточно трудно определить грань между массовым сознанием как психическим состоянием общества (или общности) и теми факторами, которые участвуют в формировании его перерастания в социальное действие. Психологическая готовность к его началу никогда не бывает равнозначной всему сложнейшему процессу работы на пути к ожидаемому результату. Это значит, что стартовая готовность носителя массового сознания к началу какого-то действия не тождественна его социально-психологической нацеленности на борьбу за те лозунги, которые отражают чаяния масс.
Список литературы Теоретические размышления о массовом сознании: можно ли найти сущность?
- Блумер Г. 1994. Коллективное поведение. - Американская социологическая мысль (под ред. В.Н. Добренькова). М.: Изд-во МГУ. С. 90-189
- Гофман А.Б. 1991. О социологии Э. Дюркгейма. - Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: Метод социологии. М.: Наука. 575 с
- Грушин Б.А. 1967. Мнение о мире и мир мнений: проблемы методологии исследования общественного мнения. М.: Политиздат. 400 с
- Грушин Б.А. 1994. Массовое сознание. Опыт определения и проблемы исследования. М.: Политиздат. 367 с
- Дилигенский Г.Г. 1986. В поисках смысла и цели: проблемы массового сознания современного капиталистического общества. М.: Политиздат. 256 с