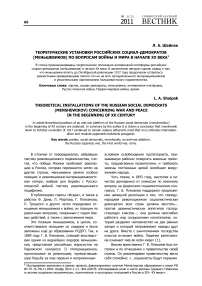Теоретические установки российских социал-демократов (меньшевиков) по вопросам войны и мира в начале XX века
Автор: Шайпак Леонид Александрович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (3), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы теоретические положения антивоенной платформы российских социал-демократов (меньшевиков) в начале XX века. В заключение автором сделан вывод о том, что меньшевики вплоть до Октябрьской революции 1917 года продолжали оставаться ревностными приверженцами самого что ни на есть ортодоксального интернационализма и решительными противниками большевистского пораженчества.
Партии, социал-демократы, меньшевики, антивоенная платформа, русско-японская война, первая мировая война, армия
Короткий адрес: https://sciup.org/14113586
IDR: 14113586
Текст научной статьи Теоретические установки российских социал-демократов (меньшевиков) по вопросам войны и мира в начале XX века
В отличие от леворадикалов, избравших тактику революционного пораженчества, считая, что победа Японии приблизит революцию в России, которая перекинется затем на другие страны, меньшевики заняли особую позицию в революционно-интернационалистском лагере, выбрав для борьбы с Русско-японской войной тактику революционного пацифизма.
В публикациях газеты «Искра», а также в работах Ф. Дана, Л. Мартова, Г. Плеханова, Л. Троцкого и других четко определено отношение меньшевиков к войне, их позиции по различным вопросам, связанным с ходом боевых действий, а также с заключением мира.
Эти позиции меньшевиков, в целом, соответствовали позициям их лидеров и были заложены ещё до образования РСДРП. Так, в 1889 году Г. В. Плеханов, ставший впоследствии одним из виднейших лидеров меньшевиков, представляя российских марксистов на Парижском конгрессе II Интернационала, проголосовал за резолюцию, провозглашавшую борьбу за мир первым и непременным условием освобождения пролетариата, призывавшую рабочих отвергать военные проекты, предлагаемые правителями, и требовать замены постоянных армий всеобщим вооружением народа.
Чуть позже, в 1893 году, выступая в качестве докладчика от комиссии по военному вопросу на Цюрихском социалистическом конгрессе, Г. В. Плеханов поддержал предложение немецкой делегации о том, что «международная революционная социалистическая демократия всех стран должна восстать... против шовинистических аппетитов господствующих классов...; она должна неослабно работать над сокрушением капитализма, который разделил человечество на два равных лагеря и который натравливает народы друг на друга. Вместе с уничтожением господства классов исчезает война. Падение капитализма означает мир во всём мире» [1].
Весьма воинственно Г. В. Плеханов был настроен и по отношению к правительству своей страны. Он рекомендовал правительству вести себя спокойно: «…социалисты будут первыми бороться против всяких воинственных тенденций» [1]. Однако «…если это ненавистное правительство не будет держаться смирно, если оно попробует наложить свою тяжёлую лапу на соседние народы, тогда всякое воздержание будет преступным, тогда нужна будет... война без отдыха и пощады ! И эта война против нашего правительства будет... войной за освобождение нашего народа» [1].
Эти позиции российской социал-демократии по отношению к войнам, сформулированные в конце XIX века будущим лидером меньшевиков, в ходе русско-японского конфликта остались практически неизменными, получив лишь некоторое развитие и уточнение.
Следует отметить, что во взглядах на причины, ход и последствия Русско-японской войны меньшевики во многом солидаризовались с большевиками и эсерами.
Меньшевики, как и леворадикалы, главным виновником конфликта считали царское самодержавие, стремившееся к захватам чужих земель и эксплуатации их населения. В августе 1904 года Г. В. Плеханов отмечал: «...не Япония начала эту войну, она была начата русским самодержавием, жаждавшим грабежей, эксплуатации, завоеваний...» [2]. Другие видные меньшевики — Ф. Дан, М. Павлович также выступили в поддержку позиции Г. В. Плеханова о захватническом (со стороны России) характере войны [3].
Вместе с тем, не стремление русского правительства к захватам, грабежам, расширению рынков сбыта промышленной продукции, а династические интересы Романовых, по мнению меньшевиков, были главной причиной начала войны. Так, Л. Мартов, к примеру, называл Русско-японскую войну «авантюрой, вытекшей из династических интересов и соображений внутренней политики царизма, отнюдь не из жизненных потребностей капиталистического развития» [4]. По его мнению, «…путём диверсии на международной арене» абсолютизм пытался «предотвратить неизбежную развязку борьбы с нацией» [5].
Таким образом, определив царизм в качестве главного виновника развязывания конфликта, меньшевики ответили отказом на призывы российских правящих кругов, поддержанные лидерами некоторых политических организаций либеральной оппозиции, к участию в обороне страны с оружием в руках, поскольку не считали победу царской России в войне выгодной для пролетариата. В то же время меньшевики остались безучастными и к пораженческим настроениям, так как считали, что огромные жертвы русского народа в результате победы Японии будут слишком дорогой ценой за возможное получение свободы.
Занимая позицию «золотой середины», одинаково дистанцируясь как от оборончества, так и от пораженчества, меньшевики с первых же дней войны попытались сформулировать своё отношение к ней и реализовать его на практике.
Так, в январе 1904 году Л. Мартов обратился к местным комитетам с инструктивным письмом о развёртывании антивоенной агитации, где рекомендовал партийным агитаторам выдвигать лозунг немедленного заключения мира. В своих статьях на ту же тематику, опубликованных в газете «Искра», он выступил против большевистского «пораженчества», подчёркивая, что свобода не может быть принесена России на японских штыках [6].
Его поддержал Ф. Дан: ««Да здравствует мир!» и «Долой самодержавие!» — эти два лозунга должны отныне неразрывно сплестись в нашей агитации», — писал он [7].
Автором лозунгов «Мир во что бы то ни стало» и «Государственная помощь голодающим крестьянам и безработным, бескровным жертвам войны» являлся также и Л. Троцкий, который в феврале 1904 года писал: «Противопоставить лозунгам реакции можно только один-единственный лозунг: долой войну и её виновника — самодержавие!» [8].
Вместе с тем, и это надо особо подчеркнуть, предлагая русскому народу уже в ходе войны «столкнуть самодержавный режим в пропасть» [9], Ф. Дан «скатывался» скорее до призыва к превращению Русско-японской войны в войну гражданскую, сильно сближаясь в этом смысле с большевиками [9], чем «до оправдания оборончества», инкриминированного ему некоторыми историками [10].
Проводя «ревизию» теоретических положений меньшевистских лидеров и выдавая желаемое за действительное, Н. Майорский, в частности, писал, что статья Ф. Дана «Дорогая цена» «…с безусловной достоверностью показывает, что меньшевики стояли на принципиально оборонческой позиции...» в Русско-японской войне 1904—1905 гг. Однако, на наш взгляд, доказательств оборончества меньшевиков в указанной статье нет. «Ни по- беда, ни поражение, а прекращение войны... как следствие революционного давления рабочего класса, — писал Ф. Дан, — вот лозунг пролетариата». Он также полагал, что путь наступательной революционной борьбы в данном случае — самый «экономный» для рабочих. При той политической конъюнктуре, которая создана войной, этот путь ведёт к революционному требованию мира и свободы», — подчеркивал автор [11].
На основе вышеприведенного анализа можно констатировать, что «партийные установки» относительно меньшевиков, которые в период Русско-японской войны выступали с лозунгом «Мир во что бы то ни стало», не связывая его с революционной борьбой против самодержавия, а наоборот, скатываясь на позиции «защиты «отечества» царя, помещиков и капиталистов», имеющие место в исторической литературе советского периода, сильно преувеличены и сознательно фальсифицированы.
Автор солидарен с выводами Э. В. Кос-тяева, который отмечает, что «…если бы меньшевистские лидеры действительно занимали в отношении данного конфликта приписывавшуюся им позицию, то, думается, у них не было бы необходимости скрываться в 1904—1905 гг. в эмиграции от правительства того царя, за защиту отечества которого они, якобы, ратовали» [12].
Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в широком спектре политических сил России меньшевики в период Русско-японской войны занимали позицию «золотой середины», одинаково не приемля как оборончество, так и пораженчество, которые вменялись им в вину многими историками советского периода.
Следуя принципу пролетарского интернационализма, меньшевики не были пацифистами вообще, выступающими принципиально против всяких войн и насилий. Они были сторонниками революционного пацифизма, и главное их требование времен Русско-японской войны — немедленное заключения «мира во что бы то ни стало» [13] — органически сливалось с их призывом бороться за революционное свержение царского самодержавия.
Начавшаяся Первая мировая война потребовала от политических партий и организаций России определить свое отношение к ней. Из всех существующих на данный мо- мент политических партий только большевики в отношении к мировому конфликту избежали партийного разъединения, поддержав в своей массе лозунги, выдвинутые их вождём, которые автором выше были подробно рассмотрены.
У меньшевиков, как и у эсеров, по вопросам войны и мира произошло идейное размежевание, в результате чего образовалось несколько течений и групп, занимавших порой совершенно противоположные позиции.
Если в условиях Русско-японской войны меньшевики проявили себя только в одной своей ипостаси — революционного пацифизма, то в годы разразившегося в 1914 году мирового конфликта в меньшевистской среде появились и сторонники тактики революционного оборончества.
«Взгляды меньшевиков, — как отмечает Э. Карр, — были самыми разными: от «правых», которые выражал Плеханов, до «левых», с которыми выступил Мартов, провозгласивший себя интернационалистом и присоединившийся к Ленину в обличении «империалистической войны» [14].
Анализ архивных и других материалов свидетельствует о том, что основные тенденции политической эволюции меньшевиков практически совпали в годы войны с главными направлениями развития партии эсеров. Меньшевики также разделились на три течения: оборончество — лидер А. Н. Потресов, центр — Н. С. Чхеидзе, левые — Ю. О. Мартов.
Однако на крайне правом оборонческом фланге стояла группа «Единство» (Г. В. Плеханов, Н. И. Иорданский) — организация не входящая в партию меньшевиков [15].
«Патриотические» взгляды Г. В. Плеханова широко пропагандировала в России вся буржуазная печать [16]. В начале войны Г. В. Плеханов, находясь за границей, обратился с письмом к русским рабочим, в котором доказывал необходимость защищать Отечество, так как Россия ведёт оборонительную войну. Причем, касаясь вопроса об инициаторе развязывания мировой бойни, Плеханов писал 17(30) сентября 1914 года: «…я принципиальный противник войны. Но раз война началась, я… желаю поражения… нападающей стороне. А нападающей стороной… явилась Германия и её союзница Австро-Венгрия» [17]. Кадеты восторгались им как «великим патриотом», а Департамент полиции в декаб- ре 1914 года, давая оценку этому течению, характеризовал его как менее опасное, менее революционное и проводимое под лозунгом «Помогать войне» [18] .
Осенью 1915 года Г. В. Плехановым от имени группы социал-демократов и эсеров-оборонцев было написано воззвание «К сознательному трудящемуся населению России». Обобщив и систематизировав в обращении все свои взгляды на войну, прогнозируя ее негативные последствия в случае неудачного для России исхода, Плеханов призвал социалистов и всю революционную демократию принять «активное участие в обороне страны» и «во всём том, что... увеличивает шансы победы России и её союзников» [19].
Воззвание получило одобрение Департамента полиции и широко пропагандировалось газетами самых разных политических направлений, издававшимися на родине, однако не было единодушно одобрено в меньшевистской среде России.
Меньшевики-оборонцы А. Потресов, Н. Че-реванин, В. Левицкий, Е. Маевский и другие меньшевистские литераторы из журнала «Наша заря» (в 1915 году — «Наше дело», а в 1916 году — «Дело») считали, что взгляды Г. В. Плеханова явно непригодны для распространения в российской рабочей среде.
Предлагая свой, с учетом условий России, вариант социал-патриотизма, они, с одной стороны, советовали своим сторонникам отказаться от выдвижения антивоенных лозунгов и устройства забастовок и восстаний в тылу русской армии; с другой — критиковать царское правительство за ошибки, отказывать ему в военных кредитах, организовывать на общественных началах помощь раненым, беженцам и солдатским семьям, вырабатывать справедливые условия будущего мира.
Солидаризируясь с леворадикалами в определении характера войны, называя ее империалистической, меньшевики-оборонцы исходили из концепции «серхсмертных грехов» германского империализма по сравнению с империализмом стран Антанты и особенно России.
«Оборонческое» течение, лидером которого являлся А. Н. Потресов, на наш взгляд, было одним из самых влиятельных в меньшевизме, особенно в среде партийной интеллигенции, объединившейся в конце 1915 года вокруг военно-промышленных комитетов. Под- тверждением такого вывода могут служить высказывания их политических оппонентов.
Так, А. Гриневич, давая характеристику политических настроений меньшевиков, весной 1916 года писал Ю. О. Мартову и П. Б. Аксельроду, что «…общим правилом относительно всей России,… среди интеллигенции, в частности литераторов, преобладает оборончество. То же самое, и даже еще в большей степени,… и среди самой верхушки наиболее развитых обынтеллигентившихся рабочих» [20].
Факт серьезной степени влияния оборонцев на меньшевиков России подтверждал меньшевик Е. А. Ананьин: «В России меньшевики почти целиком встали на патриотическую точку зрения, хотя менее значительно, чем Плеханов и Алексинский за границей», — писал он [21].
Еще один из известных меньшевиков П. Гарви констатировал, что А. Потресов в годы войны «…имел на своей стороне… большую часть меньшевистской рабочей интеллигенции» [22].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что позиции этой группы меньшевиков были своего рода «малокровным оборончеством», которое переросло в 1915—1916 гг. в идею «самозащиты», т. е. передачи дела обороны страны из рук царизма в руки российской демократии, включая рабочих и буржуазию. Важнейшим условием победы в войне эта группа меньшевиков считала координацию усилий всех оппозиционных течений при отказе пролетариата от своих «бойкотистско-максималистских утопий» и признании руководящей роли буржуазных партий и организаций [23].
Меньшевистский «центр» — более умеренное, но численно преобладавшее крыло в меньшевистских организациях в самой России возглавляли думская фракция Н. С. Чхеидзе и ОК РСДРП. Представители этого направления меньшевиков стояли на позициях осуждения империализма, под которым (как и в других партиях II Интернационала) понималась агрессивная внешняя политика великих держав, направленная на передел мира и развязывание империалистических войн. «Центристы» декларировали свою приверженность принципу пролетарского интернационализма, выступали за скорейшее заключение справедливого мира и «демократизацию России». Вместе с тем они считали, что активные ан- тивоенные массовые действия во время войны будут преждевременными и рискованными. Основная часть партийной работы переносилась меньшевиками этого направления в думскую фракцию РСДРП, уцелевшие профсоюзы, кооперативы, легальную либеральнодемократическую печать.
«Левое» крыло меньшевиков возглавлял Ю. О. Мартов, занимавший наиболее последовательную антивоенную позицию среди меньшевиков в период войны. Он резко критиковал международный империализм, русский царизм и буржуазию, а также социалистов-оборонцев всех воюющих стран, призывал к интернациональным пролетарским акциям во имя демократического мира, выдвигал лозунг мировой антиимпериалистической революции и демократической революции в России.
Идейным центром левых меньшевиков-интернационалистов во время войны были издававшиеся в Париже в 1914—1917 гг. на русском языке, последовательно сменявшие друг друга газеты «Голос», «Наше слово», «Начало», где сотрудничали меньшевики Ю. О. Мартов, В. А. Антонов-Овсеенко, Г. В. Чичерин, а также ряд бывших большевиков и Л. Д. Троцкий, резко критиковавшие позицию большевиков, которую они заняли по отношению к войне, называя их «раскольниками». Позднее они перестали так откровенно высказываться и даже позволяли себе критиковать оборонцев.
Заслуживает внимания позиция меньшевиков-интернационалистов по отношению к политической линии оборонцев, изложенной в октябре 1915 года в письме-декларации «К социалистам-демократам, меньшевикам». С курсом оборонцев они связывали голосование за военные кредиты, «гражданский мир», «священное единение», отказ от классовой борьбы и исключение борьбы за демократизацию страны.
В целом в обстановке войны меньшевики-интернационалисты отвергли лозунг «обороны», который неизбежно «окрашивался в цвет буржуазной идеологии» [24]. Сами они выдвинули лозунг «Борьба за мир!» Вопрос о мире, по их мнению, необходимо было поставить во время выступления с думской трибуны в качестве требований к господствующим классам. В качестве условий мира интернационалисты предлагали самоопределение на- циональностей, отказ от аннексий, образование международного представительного органа для улаживания отношений между государствами [25].
Следует заметить, что позиции этого направления меньшевиков имели немало общего с антивоенной платформой большевиков. Однако меньшевики-интернационалисты и Троцкий выступали против лозунгов превращения войны империалистической в войну гражданскую и поражения собственного правительства, а также против создания нового Коммунистического Интернационала и организационного разрыва с социал-патриотами внутри РСДРП [23].
Для дальнейшего рассмотрения позиций меньшевиков по вопросам войны и мира в годы Первой мировой войны необходимо особо подчеркнуть, что выделенные не только автором, но и другими исследователями, разделения меньшевиков на «течения» в некоторой степени условны. Все меньшевистские органы и группы занимали по отношению к войне собственные, в чем-то отличительные, а в чем-то и схожие с другими, позиции. Как метко подметил Г. В. Плеханов, меньшевики порой «…согласны между собой только в том, что меньшевизм лучше большевизма» [26], в связи с чем всякое жесткое разделение их членов на крупные идейные течения, группировки по отношению к Первой мировой войне неизбежно будет страдать незавершенностью. Более того, некоторые известные лидеры меньшевиков за время конфликта успели побывать одновременно в нескольких партийных органах и группах. Но, тем не менее, для всей антивоенной деятельности как меньшевиков в России, так и их однопартийцев, находящихся в эмиграции, в 1914 — феврале 1917 гг. было характерным следование двум интернационалистским тактикам — революционного пацифизма и революционного оборончества, рамками которых, по мнению автора, можно ограничить все существовавшие разногласия внутри этого революционно-демократического течения.
Февральская революция 1917 года, свершившаяся в России, внесла перегруппировку в ряды меньшевиков. Так, меньшевистский «центр» во главе с Н. С. Чхеидзе перешел на позиции «революционного оборончества», мотивируя это тем, что революция резко изменила обстановку, и русский народ вел вой- ну против Германии за свободную Россию [27].
Наиболее рельефное выражение политика «революционного оборончества» (как и другие направления меньшевиков) получила на Всероссийской конференции меньшевиков и объединенных организаций РСДРП, проходившей в Петрограде 6—12 мая 1917 года.
Архивные материалы свидетельствуют, что бурные прения в ходе конференции вызвал доклад «Отношение к войне», с которым выступил «революционный оборонец» Ф. И . Дан. При обсуждении этого доклада получили выражение три точки зрения, вокруг которых, как и ранее, произошла консолидация меньшевиков.
Приверженцы первой точки зрения — «чистой обороны» (А. И. Потресов, М. И. Ли-бер и др.), исходя из посылки «нация имеет право на самоопределение», требовали «…в защите Родины вообще согласовываться с принципами и программами социал-демократии» [28]. Следует добавить, что после революции происходит дальнейшее развитие идей этого направления. Положения «военной обороны страны» дополняются «активной борьбой международного пролетариата за всеобщий мир» [29].
Последователи второй точки зрения — «революционной обороны» (М. И. Скобелев, И. Г. Церетели, Н. С. Чхеидзе и др.) — считали, что конец войне может быть положен лишь активной и согласованной борьбой международного пролетариата за всеобщий мир. Однако, учитывая тот факт, что борьба пролетариата других стран за мир пока не дает положительных результатов, необходимо защитить российскую революцию от опасности военного разгрома, «ибо революция в России является мощным фактором революционизирования общественности на Западе» [30].
Третья точка зрения нашла выражение в интернациональной позиции Ю. О. Мартова, О. А. Ерманского и др., которые вообще отрицали участие социал-демократии в военной защите страны. По их мнению, эта защита будет воспринята пролетариатом воюющих с Россией стран как предательство интересов международной солидарности, как ослабление борьбы за мир. Отсюда вытекали и задачи пролетариата: «борьба за восстановление интернациональной солидарности рабочего класса всех стран и борьба за мир, отвечаю- щий его интересам и требованиям демократии».
Результаты голосования при принятии решения об отношении к войне красноречиво подтверждают оборонческий дух конференции: «за» — 47, «против» — 5, «воздержались» — 11 [31].
Важным моментом конференции было утверждение резолюции о братании. Принимая во внимание тот факт, что при отсутствии победоносного революционного движения в других странах, и при безусловном «подчинении австро-германской армии реакционным вождям братание может привести к разложению русской армии», конференция отвергла братание как метод борьбы за мир [32].
Вопросы войны и мира стояли в центре внимания делегатов Объединительного съезда меньшевиков, прошедшего 19—25 августа 1917 года в Петрограде.
На съезде сразу же наметились целых четыре фракции:
-
— крайние оборонцы во главе с Потресовым;
-
— «революционные оборонцы» во главе с Церетели и Даном;
-
— меньшевики-интернационалисты, группировавшиеся вокруг Ю. О. Мартова;
-
— группа сторонников петроградской газеты «Новая жизнь» (Н. Н. Суханов и др.), тоже занимавших левоинтернационалистские позиции [23].
В общем, картина была такой же, как на дореволюционных съездах РСДРП.
По вопросу войны и мира выступили 3 докладчика: М. И. Либер («чистый оборонец»), А. С. Мартынов (интернационалист) и Н. Н. Суханов («Новая жизнь») [33].
Суть позиции правых и центра была выражена в докладе М. И. Либера, отметившего: «Для нас оборона страны является неразрывной предпосылкой борьбы за мир» [34].
Основные направления доклада А. С. Мартынова и резолюции по нему сводились к следующему: будить революционность масс, под давлением которых империалисты заключат мир; требовать от Временного правительства проведения им самостоятельной внешней политики; союзникам пересмотреть цели войны и отказаться «от скрытых и явных захватных стремлений»; организовать кампанию за немедленный созыв международной социалистической конференции в Стокгольме, являвшейся одним из этапов борьбы за мир [36].
Вместе с тем в решении по докладу А. С. Мартынова можно заметить и некоторые новые позиции интернационалистов в отношении войны. Это видно из анализа заявлений о том, что «российская революция идет верным путем к всеобщей демократии, миру», и что нужно поддержать защиту страны «от неприятельского нашествия» [36].
Неоднозначными были и позиции «мень-шевиков-новожизненцев». С одной стороны, они, как и левые, выступали за развертывание демократией Европы широкой кампании за мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов, что сближало их с интернационалистами. А с другой стороны, учитывая тот факт, что революция в России не зажгла пожар в Европе, они видели единственный выход — «бороться за мир путем оружия» [37].
Тенденции к защите страны, напряжению всех сил для усиления ее обороны с целью предотвращения военного разгрома России прослеживаются в выступлениях А. Н. Потре-сова, И. Г. Церетели [38].
По итогам обсуждения докладов о войне и мире делегатам предложено 2 проекта постановления, ввиду того, что «меньшевики-новожизненцы» свой проект сняли. Победу одержала линия М. И. Либера [39].
В резолюции, принятой съездом, отмечалось, что «…в соответствии с ранее возвещенным отношением нашим к войне и миру съезд полагает, что в настоящих условиях единственный путь ко всеобщему миру на началах, приемлемых для демократии, лежит через восстановление единства международного пролетариата для согласованной борьбы за мир и через самую решительную защиту российской революции, сильнейшего фактора мира, от внешнего и внутреннего разгрома» [40].
Завершая рассмотрение политической линии меньшевиков по вопросам войны и мира, необходимо отметить, что, в целом, она оставалась неизменной. Подтверждением может служить резолюция «О внешней политике Временного правительства», принятая меньшевистской фракцией Предпарламента 16 октября 1917 года, возглавляемой членом ЦК партии Ф. И. Даном. В этой резолюции министру иностранных дел Российской республики предлагалось добиваться созыва международной конференции союзных держав, в ходе которой были бы определены цели продолжающейся войны и условия мирных переговоров [40].
Несмотря на тактические разногласия, в стратегическом плане меньшевики, вплоть до Октябрьской революции 1917 года, продолжали оставаться ревностными приверженцами самого что ни на есть ортодоксального интернационализма и решительными противниками большевистского пораженчества.
-
1. Плеханов Г. В. Военный вопрос на конгрессе в Цюрихе (в ред. журн. «L'Ere nouvelle») // Соч. Изд. 2-е. М., 1925. Т. IV. С. 162.
-
2. Плеханов Г. В. Речь в день открытия Амстердамского международного социалистического конгресса // Соч. Изд. 2-е. М., 1925. Т. XIII. С. 372.
-
3. См.: Дан Ф. В тисках. С. 630; Волонтёр. Русско-японская война: причины, ход и последствия. СПб.: Новый Мир, 1905. С. 25, 28, 29, 30—31, 38, 55—56.
-
4. Мартов Л. История российской социал-демократии. 3-е изд. М., 1923. С. 81.
-
5. Мартов Л. Итоги политического развития // Общественное движение в России в начале XX века. Т. 1. С. 663.
-
6. См.: Савельев П. Ю., Тютюкин С. В. Юлий Осипович Мартов (1873—1923): человек и политик // Новая и новейшая история. 1995. № 4. С. 148.
-
7. Дан Ф. Война! // «Искра» за два года. Ч. 1. 1904. 25 янв. № 58. С. 636.
-
8. Троцкий Н. Письма обо всём // «Искра» за два года. Ч. 1. 1904. 25 февр. № 60. С. 59; Он же. Наши политические задачи // Русско-японская война: сб. материалов. С. 206.
-
9. Подробнее об этом см.: Аврус А. И., Костяев Э. В. Российская социал-демократия и русско-японская война 1904—1905 годов // Australian Slavonic and East European Studies. Vol. 7.2. 1993. P. 125.
-
10. См.: Ярославский Е. М. Очерки по истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). 3-е изд. М., 1936.
-
11. См.: Сидоров А. Л. Русско-японская война (1904—1905 гг.). М., 1946. С. 57; Черменский Е. Д. Русско-японская война 1904—1905 годов. М., 1953. С. 27; История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1954. С. 53; Воровский В. В. Избранные произведения о первой русской революции. М., 1955. С. 41; История Коммунистической партии Советского Союза. Изд. 7-е / под ред. Б. Н. Пономарёва. М., 1984. С. 70 и др.
-
12. Костяев Э. В. Отношение российских меньшевиков к проблемам войны и мира (январь 1904 — февраль 1917 года): дис. … канд. ист. наук. Саратов, 1997. С. 57.
-
13. Дан Ф. Правительственная война и правительственный мир // «Искра» за два года. Ч. 1. 1905. 25 мар. № 94. СПб., 1906. С. 684—685.
-
14. Карр Э. История Советской России. Кн. 1. М., 1990. С. 73.
-
15. См.: Капустин М. П. Конец утопии? Прошлое и будущее социализма. М., 1990. С. 89.
-
16. В годы войны статьи Г. В. Плеханова регулярно печатались в меньшевистском журнале «Современный мир», газетах «Русские ведомости», «Биржевые ведомости», «Современное слово», «Речь» и др. Кроме того, в 1915— 1916 гг. в Петрограде несколькими изданиями вышла брошюра Г. В. Плеханова «О войне». Более подробно см.: Тютюкин С. В. Война, мир, революция. Идейная борьба в рабочем движении России. 1914—1917 гг. М., 1972. С. 4—58.
-
17. Цит. по: Меньшевики. Документы и материалы. 1903 — февраль 1917 гг. М., 1996. С. 352353. О позиции Г. В. Плеханова и его единомышленников в вопросе о виновнике войны см. также: Плеханов Г. В. О войне. 4-е изд. Пг., 1916. С. 19, 37—38; Алексинский Г. Война и революция. Пг., 1917. С. 9; Дневницкий П. Чем грозит русскому народу победа Германии? Пг., 1917. С. 3—4 и др.
-
18. ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1304. Л. 1.
-
19. Цит. по: Спиридович А. И. Партия социалистов-революционеров и её предшественники. 1886—1916. Изд. 2-е, доп. Пг., 1918. С. 527— 528, 605.
-
20. РЦХИДНИ. Ф. 362. Оп. 1. Д. 49. Л. 1.
-
21. Ананьин Е. А. Из воспоминаний революционера 1905—1923 гг. // Меньшевики / сост. Ю. Г. Фель-штинский. Бесон, 1988. С. 227.
-
22. Гарви П. А. Н. Потресов — человек и политик // Социалистический вестник. 1934. № 14 (323).
-
23. История политических партий России. М., 1994. С. 247.
-
24. РЦХИДНИ. Ф. 451. Оп. 1. Д. 99. Л. 18.
-
25. Там же. Л. 19.
-
26. Цит. по: Аронсон Г. К истории правого течения среди меньшевиков // Меньшевики после Октябрьской революции: сб. ст. и воспоминаний Б. Никольского, Г. Аронсона / ред.-сост. Ю. Г. Фельштинский. Бенсон, 1990. С. 239.
-
27. РГВИА. Ф. 2048. Оп. 4. Д. 45. Л. 72, 73.
-
28. РЦХИДНИ. Ф. 457. Оп. 2. Д. 2. Л. 21.
-
29. Там же. Л. 22.
-
30. РГВИА. Ф. 2048. Оп. 4. Д. 45. Л. 74.
-
31. РЦХИДНИ. Ф. 451. Оп. 2. Д. 1. Л. 41.
-
32. Там же. Л. 35.
-
33. РЦХИДНИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 2. Л. 104.
-
34. Там же. Л. 108.
-
35. РЦХИДНИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 2. Л. 110; Оп. 1. Д. 4, 7.
-
36. РЦХИДНИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 4. Л. 7.
-
37. РЦХИДНИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 2. Л. 113; Д. 3. Л. 171.
-
38. Там же. Л. 50, 57.
-
39. Там же. Л. 115.
-
40. РЦХИДНИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 38. Л. 1.
Список литературы Теоретические установки российских социал-демократов (меньшевиков) по вопросам войны и мира в начале XX века
- Плеханов Г. В. Военный вопрос на конгрессе в Цюрихе (в ред. журн. «L'Ere nouvelle»)//Соч. Изд. 2-е. М., 1925. Т. IV. С. 162.
- Плеханов Г. В. Речь в день открытия Амстердамского международного социалистического конгресса//Соч. Изд. 2-е. М., 1925. Т. XIII. С. 372.
- Дан Ф. В тисках. С. 630; Волонтёр. Русско-японская война: причины, ход и последствия. СПб.: Новый Мир, 1905. С. 25, 28, 29, 30-31, 38, 55-56.
- Мартов Л. История российской социал-демократии. 3-е изд. М., 1923. С. 81.
- Мартов Л. Итоги политического развития//Общественное движение в России в начале XX века. Т. 1. С. 663.
- Савельев П. Ю., Тютюкин С. В. Юлий Осипович Мартов (1873-1923): человек и политик//Новая и новейшая история. 1995. № 4. С. 148.
- Дан Ф. Война!//«Искра» за два года. Ч. 1. 1904. 25 янв. № 58. С. 636.
- Троцкий Н. Письма обо всём//«Искра» за два года. Ч. 1. 1904. 25 февр. № 60. С. 59;
- Троцкий Н. Наши политические задачи//Русско-японская война: сб. материалов. С. 206.
- Подробнее об этом см.: Аврус А. И., Костяев Э. В. Российская социал-демократия и русско-японская война 1904-1905 годов//Australian Slavonic and East European Studies. Vol. 7.2. 1993. P. 125.
- Ярославский Е. М. Очерки по истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). 3-е изд. М., 1936.
- Сидоров А. Л. Русско-японская война (1904-1905 гг.). М., 1946. С. 57;
- Черменский Е. Д. Русско-японская война 1904-1905 годов. М., 1953. С. 27
- История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1954. С. 53;
- Воровский В. В. Избранные произведения о первой русской революции. М., 1955. С. 41;
- История Коммунистической партии Советского Союза. Изд. 7-е/под ред. Б. Н. Пономарёва. М., 1984. С. 70 и др.
- Костяев Э. В. Отношение российских меньшевиков к проблемам войны и мира (январь 1904 -февраль 1917 года): дис. … канд. ист. наук. Саратов, 1997. С. 57.
- Дан Ф. Правительственная война и правительственный мир//«Искра» за два года. Ч. 1. 1905. 25 мар. № 94. СПб., 1906. С. 684-685.
- Карр Э. История Советской России. Кн. 1. М., 1990. С. 73.
- Капустин М. П. Конец утопии? Прошлое и будущее социализма. М., 1990. С. 89.
- Тютюкин С. В. Война, мир, революция. Идейная борьба в рабочем движении России. 1914-1917 гг. М., 1972. С. 4-58.
- Меньшевики. Документы и материалы. 1903 -февраль 1917 гг. М., 1996. С. 352-353.
- О позиции Г. В. Плеханова и его единомышленников в вопросе о виновнике войны см. также: Плеханов Г. В. О войне. 4-е изд. Пг., 1916. С. 19, 37-38;
- Алексинский Г. Война и революция. Пг., 1917. С. 9;
- Дневницкий П. Чем грозит русскому народу победа Германии? Пг., 1917. С. 3-4 и др.
- ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 1304. Л. 1.
- Спиридович А. И. Партия социалистов-революционеров и её предшественники. 1886-1916. Изд. 2-е, доп. Пг., 1918. С. 527-528, 605.
- РЦХИДНИ. Ф. 362. Оп. 1. Д. 49. Л. 1.
- Ананьин Е. А. Из воспоминаний революционера 1905-1923 гг.//Меньшевики/сост. Ю. Г. Фельштинский. Бесон, 1988. С. 227.
- Гарви П. А. Н. Потресов -человек и политик//Социалистический вестник. 1934. № 14 (323).
- История политических партий России. М., 1994. С. 247.
- РЦХИДНИ. Ф. 451. Оп. 1. Д. 99. Л. 18.
- Аронсон Г. К истории правого течения среди меньшевиков//Меньшевики после Октябрьской революции: сб. ст. и воспоминаний Б. Никольского, Г. Аронсона/ред.-сост. Ю. Г. Фельштинский. Бенсон, 1990. С. 239.
- РГВИА. Ф. 2048. Оп. 4. Д. 45. Л. 72, 73.
- РЦХИДНИ. Ф. 457. Оп. 2. Д. 2. Л. 21.
- РГВИА. Ф. 2048. Оп. 4. Д. 45. Л. 74.
- РЦХИДНИ. Ф. 451. Оп. 2. Д. 1. Л. 41.
- РЦХИДНИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 2. Л. 104.
- РЦХИДНИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 2. Л. 110; Оп. 1. Д. 4, 7.
- РЦХИДНИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 4. Л. 7.
- РЦХИДНИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 2. Л. 113; Д. 3. Л. 171.
- РЦХИДНИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 38. Л. 1.