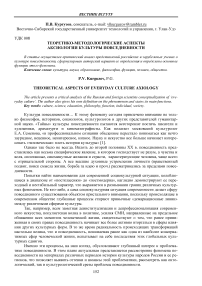Теоретико-методологические аспекты аксиологии культуры повседневности
Автор: Кургузов П.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 1 (46), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье осуществлен критический анализ представлений российских и зарубежных ученых о культуре повседневности, сформулирован авторский вариант ее определения и определены основные функции этого феномена.
Культура, наука, образование, философия, функция, человек, общество
Короткий адрес: https://sciup.org/142142817
IDR: 142142817 | УДК: 008
Текст научной статьи Теоретико-методологические аспекты аксиологии культуры повседневности
Культура повседневности… К этому феномену сегодня привлечено внимание не только философов, историков, социологов, культурологов и других представителей гуманитарной науки. «Тайны» культуры повседневности пытаются всесторонне постичь писатели и художники, драматурги и кинематографисты. Как полагает московский культуролог Е.А. Семенова, «в профессиональном сознании обыденное перестало пониматься как нечто заурядное, неценное, неинтересное, низкое. Науку и искусство все больше начинает интересовать «человеческая» плоть истории культуры» [1].
Однако так было не всегда. Вплоть до второй половины ХХ в. повседневность представлялась как весьма специфическое явление, в котором господствует не разум, а чувства и воля, спонтанные, сиюминутные желания и страсти, характеризующие человека, чаще всего с отрицательной стороны. А все высшие духовные устремления личности (нравственный подвиг, поиск смысла жизни, борьба за идею и проч.) рассматривались за пределами повседневности.
Попытки найти наименования для современной социокультурной ситуации, колеблющиеся в диапазоне от «постклассики» до «постмодерна», наглядно демонстрируют ее переходный и нестабильный характер, что выражается в размывании границ различных культурных феноменов. Не кто-либо, а сама социокультурная ситуация современности делает сферу повседневного существования объектом пристального внимания, поскольку происходящие в современном обществе глубинные процессы стирают привычные «демаркационные линии» между различными сферами культуры.
Так, например, всем заметная деинституализация и депрофессионализация современного искусства, популистская волна в политике, усилия СМИ, направленные на предельное обнажение всех моментов человеческой жизни, свидетельствуют о том, что ранее приниженная в своих правах повседневность начинает все более активно вторгаться в сферы влияния других культурных форм. В то же время радикальность происходящих трансформаций настолько велика, что и повседневность, понимаемая ранее как одна из наиболее консервативных сфер человеческой жизни, испытывает на себе последствия этих глобальных культурных сдвигов.
Именно эти процессы, на наш взгляд, обусловливают глубинный интерес к проблематике повседневности. В этом плане актуальным представляется рассмотрение феномена повседневности на материалах различных периодов истории культуры народов России и ее регионов, что позволяет выявить оттенки и нюансы этой проблематики, рассмотреть как онтологический, так и культурологический срезы проблемы повседневности.
Признание международным и отечественным гуманитарными сообществами научного статуса культуры повседневности обусловливает необходимость ее системного и комплексного исследования с позиций междисциплинарной методологии. «А это, в свою очередь, отмечает О.Н. Судакова, …позволяет расширить предметное поле региональной культурологии и предполагает совершенно другой ракурс исследований культуры народов, проживавших и проживающих в определенном регионе России» [2].
Еще в начале 1990-х гг., когда, по сути дела, отечественная культурология как наука делала только первые шаги, Н.В. Козлова в статье «Социология повседневности: переоценка ценностей» отмечала, что «…в повседневности подчеркивается ее очевидная наблюдаемость, видимость, сопряженная с незамеченностью» [3]. Вслед за ней А.Ф. Худенко в статье «Повседневность в лабиринте рациональности» подчеркнула, что «Повседневное понимается как привычное, упорядоченное, близкое…» [4].
Может быть, «очевидная наблюдаемость» вместе с «незамеченностью» как раз и составляют одну из причин, по которой обыденность долгое время не становилась предметом научного и художественного осмысления. Ведь вполне понятно, что обращаться к тому, что очевидно, что буднично и лежит на поверхности, известно и переживаемо всеми не имеет никакого смысла.
Однако пришло время, и сегодня на повседневности как важнейшей форме бытия человека сосредоточено внимание многих гуманитарных дисциплин. Вместе с тем интегрального описания повседневности пока еще не состоялось, но оно возможно. На наш взгляд, эту возможность можно успешно реализовать с наибольшей эффективностью с помощью теоретико-методологического аппарата философии культуры и культурологии.
Однако начать все же придется не с анализа феномена культуры повседневности, а с общеизвестного, но все же необходимого в методологических статьях утверждения о том, что в целостную систему культуры входит множество морфологических единиц, среди которых культуры: духовная и материальная, нравственная и эстетическая, мировая и региональная, гуманитарная и техническая, политическая, экономическая, социальная, экологическая, элитарная, традиционная, народная, гендерная и проч. Таким образом, культура повседневности лишь одна из многочисленных единиц, которые образуют собой дилектическое единство целостной системы культуры.
Продвигаясь далее к цели теоретико-методологичекого анализа феномена культуры повседневности, необходимо выделить ее характерные черты и структуру.
К первой черте мы вслед за социологом из Соломонова университета Киева Н.Б. Отрешко отнесли «реальность повседневности», которая сама по себе «…имеет вполне разумеющийся характер, который совсем не требует создавать дополнительные усилия в нашем сознании, чтобы удерживать его в этой реальности. Повседневность естественная, она существует как самоочевидная и непреодолимая фактичность» [5].
Вторая черта повседневности заключается в том, что она организует вокруг индивида «здесь» и «теперь», т.е. в рамках конкретного места и конкретного времени.
Третьей чертой повседневности является ее объективная упорядоченность. Ее феномены систематизированы в образах, которые кажутся независимыми от индивидуального стиля мышления и истории общества. Они налагаются на любую информацию в жизненных ситуациях и формируют их понимание.
Основным инструментом этой объективизации является язык, используемый людьми в повседневной жизни. Его смысловые культуры устанавливают порядок, в рамках которого повседневная жизнь приобретает какой-либо смысл. Следует также иметь в виду, что мир повседневности вовсе не хаотичен, как может показаться на первый взгляд. Он вполне структурирован в сознании каждого человека. Эти структуры, находясь во внешнем социальном пространстве, подчинены единому центру – образу «Я» конкретного человека и задачам его действий [6].
В философских и социологических исследованиях, посвященных феномену повседневности, выделяются два плана использования этого понятия. Первый из них связан с понима- нием обыденности, повседневности как естественного состояния человека, как его частной каждодневной жизни. Иными словами, повседневность располагается в пространстве жизненного естественного мира человека.
Второй аспект понимания повседневности включает сферу общительности в повседневной жизни, в которой зафиксированы обязательные символические способы понимания себя и другого. Среди них выделяются неофициальные знаки и способы, средства отношения и взаимодействия, складывающиеся как бы спонтанно в ситуациях повторяющихся изо дня в день контактов и позволяющих людям отличать «своих» от «чужих». В этом смысле повседневность играет консолидирующую роль для определенной социальной группы и может выступать в значении групповой идентификации.
Повседневность – это процесс жизнедеятельности индивидов, разворачивающейся в привычных общественных ситуациях на базе самоочевидных ожиданий.
Возникает вполне закономерный вопрос: можно ли научить человека культуре повседневности? Нам трудно согласиться с выводом историка Е.Ш. Гуляевой из Волгоградского медицинского университета, которая утверждает, что «обыденная культура не изучается человеком специально – (выделено нами. П.К .) за исключением эмигрантов, целенаправленно осваивающих язык и обычаи новой родины, а усваивается стихийно (выделено нами. – П.К .) в процессе детского воспитания и общего образования, общения с родственниками, социальной средой, коллегами по профессии и проч., корректируется на протяжении всей жизни индивида по интенсивности его социальных контактов» [7].
Изучается скажем мы. Причем изучается на протяжении многих лет человеческой жизни, а не только в детстве. Изучается вовсе не «стихийно», как ошибочно утверждает автор цитаты, а в «процессе образования и воспитания», как утверждает она же, противореча сама себе.
Изучается повторим мы, приводя в пример массовый интерес гуманитариев всех направлений к проблемам сущности феномена культуры повседневности. Среди исследователей феномена культуры повседневности можно назвать имена Маркузе и Хайдеггера, Лефевра и Хеллера, Гуссерля и Шюца, Бергера и Лукмана, российских аналитиков А.Я. Гуревича, Л.Г. Ионина, М.А. Некрасову, В.Н. Горелову и многих других. Какая уж тут «стихийность» последовательный процесс рефлексии.
В сущности, этот ошибочный вывод обусловлен, скорее всего, весьма зауженным пониманием как феномена культуры вообще, так и культуры повседневности в частности. Ведь не секрет, что даже целостная система культуры многими понимается весьма зауженно. Люди в ней чаще всего видят искусство, которая на самом деле является лишь крохотной частью галактики под названием Культура, которая наряду с Природой является одной из форм бытия человека и гарантом его выживания на земле.
К сожалению, этот пример подает не кто иной, как Министерство культуры России и ее органы на местах, которые практически руководят искусством, но не культурой в целом, ибо в структурах этих органов нет ни отделов культуры быта, ни культуры производства, ни культуры гендерных отношений и т.д. Но зато есть отделы, курирующие работу театров, музеев, филармоний и проч. – суть отделы искусства. Тогда надо было так и назвать этот орган Министерство искусства.
Как видим, забвение теории культуры (зауженное ее понимание) приводит к поражениям в социальной практике. Бюджет российской культуры сегодня, пожалуй, самый бедный за последние полвека: менее одного процента годового бюджета страны. Государство не желает выдавать большие деньги под то, что «радует глаз и ухо», ибо при таком подходе некому (кроме полиции) разбираться с социальной «грязью», пороками и недостатками общества.
Не разделяя точку зрения Е.Ш. Гуляевой, мы полностью согласны с выводом культуролога из Кемеровского университета культуры и искусств Е.С. Кузнецовой, которая полагает, что «проблема повседневности состоит сегодня в том, что навыков ее заполнения нравственно-этическими, ценностно-значимыми адаптивными практиками у россиян всех поколений практически нет» [8]. Она делает совершенно справедливый вывод о том, что «обра- зовательный (просветительский) курс «Культура повседневности» посредством школы и высшего профессионального, культурологического образования (выделено нами. П.К.) как фабрики «массового сознании» (Я. Коменский)… способен запустить еще одну стратегию – либеральную программу частного человека «Философических писем» Чаадаева, когда «индивидуальность садится на конек культуры и начинает двигаться в направлении сохранения жизни человека, здорового, самоценного отношения субъекта к «настоящему» (его явлениям, контактам, процессам) [9].
Нам представляется, что ожидаемый результат неизбежных, привычных, типичных практик нашей повседневной культуры, если мы будем ее сознательно постигать и внедрять в свой быт (обыденная усталость и раздражение, разочарования и обиды, утраты и потери, расход воды и электроэнергии и проч.), станет, в конце концов, своеобразными точками отсчета, личностно и социально значимыми феноменами ценностных оснований повседневной культуры.
М.С. Матлахова не без оснований полагает, что ареал культуры повседневности это, прежде всего, наш дом. Бездомность это, несомненно, маргинальность и, практически всегда, преступность. Возводя свой дом, человек строит свой собственный мир в соответствии с собственными возможностями, привычками, вкусами и желаниями. Дом является выразителем индивидуальности и неповторимости своего хозяина. К сожалению, современное жилище часто становится лишь местом обитания, теряя свою сакральность, приобретая характер искусственной среды (запахи синтетики, искусственное тепло и проч.) [10].
С этим выводом трудно не согласиться. Но, тем не менее, подчеркнем, что в последнее время все большее и большее число исследователей акцентируют свое внимания все же на «домашнем образе жизни» человека. В рамках обыденной культуры дом наделяется определенной значимостью, а следовательно, остается одной из фундаментальных реалий культуры повседневности.
Есть и еще один аспект аксиологии культуры повседневности. Для уточнения широких философских понятий «повседневность» и «повседневная реальность» современная культурология использует более частное понятие «обыденная культура» . Оно вводится для того, чтобы разграничить специализированные, профессиональные сферы культуры и неспециализированные, обыденные [11]. Многие культурологии выделяют некоторые составляющие обыденной культуры, которые имеют приблизительные аналоги в специализированных сферах. Например, домашний быт, хозяйствование, обычаи, нравы, ритуалы, нравственные нормы, обыденная эстетика и проч.
И все же следует признать, что ни в философии, ни в культурологии, ни в социологии повседневности до сих пор не выработано достаточно четкого определения обыденности , которое чаще всего считают аналогом феномена культуры повседневности . Поэтому мы разделяем точку зрения В.Н. Гореловой, выраженную в работе «Обыденное сознание как философская проблема». Она полагает, что повседневные человеческие практики, здравый смысл, народная мудрость, живое сознание – вот далеко не полный набор обозначений обыденной жизни [12].
Этот вывод никак не расходится и с мнением классиков теории повседневности. В частности, с точки зрения Гуссерля, весь «жизненный мир» был не чем иным, как миром повседневности. Такая феноменологическая трактовка была развита в свое время А. Шюцем и его последователями П. Бергером и Т. Лукманом [13].
В обобщающем плане для нас вполне приемлема и точка зрения А. Лефевра, у которого повседневность (обыденность) выступает как подлинный феномен творчества, где создается как все человеческое, так и сам человек. «Повседневность, полагал он, – это место дел и трудов, а все высшее в зародыше содержится в повседневном и возвращается тоже в повседневность, когда хочет доказать свою истинность» [14].
После всего вышесказанного нам остается попытаться ответить на вопрос: «Так что же являет собой феномен культуры повседневности?» Иными словами, необходимо дать этой культуре определение. Дело это, как известно, непростое. Например, целостная система культуры имеет, по мнению специалистов Российского института культурологии РАН, около 2 тыс. дефиниций [15]. С нашей точки зрения, решительно ничего не произойдет, если добавить в этот список еще 2-3-5 тыс. определений. Так происходит всегда со сложными системами. Например, нет же у нас исчерпывающего ответа на вопрос: «Что есть человек?» Весьма мудро отвечает на него Библия: «Тайна сия есть». И все…
Культура тоже сложнейшая система, и она очень неохотно дает себя «определять». В это ситуации ничего не остается делать, как довольствоваться неким «рабочими» определением, чтобы использовать его хотя бы в операционных целях. В этом смысле культуру повседневности мы определяем как систему регулятивной человеческой деятельности, несущую в себе аккумулированный опыт быта и нравов в пространстве обыденной жизни индивида.
Повторимся еще раз, что это наше определение ни в коей мере не претендует на универсальность и самодостаточность. Для нас оно служит инструментарием, без которого никакой культурологический дискурс невозможен.
В качестве заключения вышесказанному подчеркнем, что духовный и предметноматериальный мир традиционной народной культуры повседневности продолжает жить в условиях современности. Он обширен, многообразен, но в значительной своей части носит иной, чем прежде, характер, заметно отличаясь от старого. И, разумеется, культура повседневности быта и нравов, например, сельского жителя современной российской деревни вовсе не похожа на обыденную культуру русского крестьянина, скажем, начала ХХ в. И это вполне естественно, ибо мировоззрение и культура населения резко изменились и продолжают меняться на наших глазах с небывалой быстротой. Процесс этот неровен, не везде одинаково интенсивен, так как страна наша огромна и неоднородна как по этническому, так и по социальному составу населения, разнообразна по культурным, экономическим условиям, по степени ориентации на традиции прошлого. Именно это и обязывает нас не предавать забвению изучение культуры повседневности, всех граней наследия этого феномена.