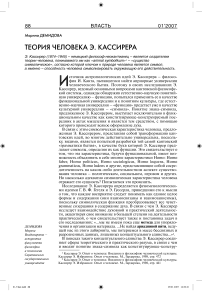Теория человека Э. Кассирера
Бесплатный доступ
Э. Кассирер (1874-1945) немецкий философ-неокантианец является создателем теории человека, понимаемого им как «animal symbolikum» «существо символическое», согласно которой ключом к природе человека является символ, а именно способность человека символизировать окружающую его действительность.
Теория человека, э. кассирер, символ
Короткий адрес: https://sciup.org/170169109
IDR: 170169109
Текст научной статьи Теория человека Э. Кассирера
И сточник антропологических идей Э. Кассирера – философия И. Канта, пытавшегося найти априорные универсалии человеческого бытия. Поэтому в своих исследованиях Э.
Кассирер, ведомый основными вопросами кантовской философской системы, однажды обнаружив естественно-научную понятийную универсалию – функцию, попытался применить ее в качестве функциональной универсалии и к понятиям культуры, где естественно-научная универсалия – «функция» предстает уже в качестве культурной универсалии – «символа». Понятие знака-символа, предложенное Э. Кассирером, выступает исключительно в функциональном качестве как конституирующе-конструируемый посредник в актах мышления и является тем средством, с помощью которого происходит всякое оформление духа.
В связи с этим символическая характеристика человека, предложенная Э. Кассирером, представляя собой трансформацию кантовских идей, во многом действительно универсальна, поскольку, видимо, является попыткой разработки той самой кантовской «грамматики бытия», в качестве букв которой Э. Кассирер предлагает символы, определяя их как функции. Это свидетельствует о том, что эта характеристика, будучи функциональной, имеет возможность объединять в себе многие характеристики Homo: Homo faber, Homo politicus, Homo sociologicus, Homo loquens, Homo grammaticus, Homo ludens и другие, представляющие собой сосредоточенность на каком-либо деятельностном аспекте существования человека – политическом, социальном, игровом и других. Но насколько адекватно символическая характеристика человека отражает его сущность? Попытаемся это прояснить.
ДЕМИДОВА Марина Владимировна – аспирантка факультета философии и психологии Саратовского государственного университета
Исследование Э. Кассирера определяется феноменологическими идеями Г. В. Ф. Гегеля и Э. Гуссерля, приведшими его к мысли о том, что каждое восприятие следует понимать как единое целое формы и содержания (они взаимосвязаны и взаимозависимы), поскольку символическая функция преобразовывает все чувственные созерцания в содержание духа. В связи с чем Э. Кассирер исследует взаимодействие духовной и практической деятельности, акцентируя свое внимание в большей степени на деятельности практической, о чем свидетельствует также и постановка задач в его исследованиях: «…мы не имеем пока еще метода для упорядочения и организации материала. …Не найдя ариадниной нити , ведущей нас из этого лабиринта, мы потеряемся в массе бессвязных и разрозненных данных, лишенных концептуального единства…»2.
В поисках такого концептуального единства Э. Кассирер соединяет сферы теоретического и практического разума, в связи с чем и вводит понятие знака-символа как конституирующе-констру- ируемого посредника в актах мышления. Понятия, образы, язык в этом процессе являются функциями, конструирующими предметы через отношения. А познающий субъект согласно Э. Кассиреру всегда опирается на уже в той или иной степени логически оформленный опыт.
Взгляды Э. Кассирера о понимании человека свидетельствуют о том, что приоритет исследований философа сделан на конструктивной активности разума и на функциональном, а не субстанциональном принципе человеческого существования.
Действительно, понятием «функции» обозначается только некая процессуаль-ность, часто даже безотносительная цели (в отличие от понятия «субстанции», обозначающей нечто устойчивое, вечное, неизменное (безотносительное изменениям) и телеологичное, то есть целесообразное).
В качестве иллюстрации функции, которая ничему не служит, здесь было бы очень уместным обращение к современной постмодернистской философии, развившей понятие пустого, бессодержательного символа (по Э. Кассиреру, в любом случае – функции) – «симулякра» (фр. simulacres, от simulation – симуляция). В связи с этим симулятивные теории пост-модернистской философии развивают идею о тотальной семиоти-зации бытия, даже вплоть до обретения знаковой сферой статуса единственной и самодостаточной реальности.
Видимо, истоки симулятивных теорий следует искать в 10–30-х годах ХХ века, когда возникло новое философское направление, вызвавшее также целое движение немецкой гуманитарной мысли, – концепция фикционализма (или фикционизма), представленная в работах немецкого философа Ганса Файхингера (1852–1933), опубликованная под названием «Философия Как-Если-Бы»1 в 1911 году. Это учение о фик-циях2 как принятых разумом абсолютно ложных допущениях, задача которых – «…не служить познанию, а обеспечить возможность практической деятельности…», проникло «…даже в Америку в виде специальных теоретико-методологичес- ких программ, направленных на критический пересмотр оснований науки, философии, религии и вообще духовных основ культуры в духе учения о фикциях как главных формосодержательных единицах, из которых составляется все благоприобретенное культурное достояние человека…» Причем культура понимается Г. Файхингером как «…некая полезная мнимость вновь и вновь преобразуемая творческим усилием человека…».
Э. Кассирер был знаком с популярной в то время концепцией фикций Г. Файхингера. Однако Э. Кассирер в своих работах не оговаривает, есть ли разница между таким символическим понятием, как «фикция» (по сути своей обозначающем «ложное допущение») и, собственно, «символом» (определяемым как «функция»). Понятие «символа» как функции мышления у Э. Кассирера является общим и для фикциональных обозначений, и для истинных.
Примечательным и удивительным, на первый взгляд, для нас является то обстоятельство, что симулятивные теории (в киноверсии – это «Матрица») возникли и получили свое развитие именно в современной Франции (Ж. Батай, П. Клоссовски, А. Кожев, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез), а также в современной Америке (Ф. Джеймисон), но не в России, не на Востоке и не в Африке. Почему?
На наш взгляд, возможной причиной этого обстоятельства является различная организованность социума этих стран: главное отличие Франции и Америки (а также других западно-европейских стран) от России и стран Востока состоит в том, что они являются образованиями в наибольшей степени цивилизационного характера.
Современная гуманитарная мысль, имеющая опыт сложных и неоднозначных результатов цивилизационных процессов, которые стали очевидными во второй половине ХХ века, различает значения терминов «культура» и «цивилизация». Если «культура» понимается как образование духовное, то «цивилизация» – как образование социальное, выраженное в различных формах и отношениях социальности.
Сегодня цивилизационное пространство (чрезвычайно рационализированное) приводит человека к ощущению маргинальности, заброшенности, нахождения на границе социального (цивилизационного) бытия и человеческой реальности в целом, поскольку человек видит себя только некой функцией в искусственной системе и не более того. А такие естественные человеческие проявления, как любовь, радость, сочувствие (любые эмоциональные переживания), оказываются зачастую анормальными, дезорганизующими стройную институциональную систему, а потому выносятся на ее периферию. Поэтому проблемы современного человека часто характеризуются выраженной тенденцией деструкции, отчужденности, хаотизации, неопределенности, ведущей к психотизации и невротизации общества1. Только в странах ярко выраженного цивилизационного типа (в странах современной Европы, а особенно в цивилизациях техногенного характера, таких, как, например, США) психоанализ нашел свое активное практическое применение до такой степени, что большинство жителей этих стран уже не мыслят своего существования без консультаций личного психоаналитика. В конце XX века известный этолог К. Лоренц предостерегал от опасностей, грозящих человечеству в результате развития цивилизационных процессов, и видел выход из этой ситуации в коренной переоценке человеком своих нынешних представлений о самом себе, в самопознании, в кардинальном пересмотре нынешних ценностей.
Поэтому причиной, помешавшей, на наш взгляд, Э. Кассиреру в развитии более адекватного понимания человека является, вероятно, применяемый им к человеку в «Опыте о человеке» подход, который, судя по всему, является подходом цивилизационным: «…Вместо того, чтобы определять человека как animal rationale, мы должны, следовательно, определить его как animal symbolicum. Именно так мы сможем обозначить его специфическое отличие, а тем самым и понять новый путь, открытый человеку, – путь цивилизации »2.
При этом Э. Кассирер, судя по всему, не делает четкого различия между понятия- ми «культура» и «цивилизация». Скорее он понимает их в значении поступательного развития. Приблизительно так: от «культуры» к более совершенной, по мнению Э. Кассирера, форме общественного устройства – «цивилизации». При этом он наделяет цивилизацию инструментарием, в качестве которого выступает «символ» как универсальный метод познающего и созидающего человека. Таким образом, Э. Кассирер, увлеченный изучением познавательного процесса человека, сосредоточивает свое внимание на практической стороне познания, а именно – на процессе конструирования объективации субъективности.
Если же обратиться к кантовскому пониманию «культуры» и «цивилизации» (что, на наш взгляд, необходимо в данном размышлении в силу принадлежности Э. Кассирера к кантианской традиции), то мы увидим, насколько отлично это понимание от понимания Э. Кассирера: по И. Канту, «цивилизация» как социальная форма является следствием культуры, а «культура» представляет собой реализацию свободы (наиважнейшую категорию кантовской философской системы), определяемую как телеологическая каузальность3, которая в свою очередь немыслима без соблюдения моральных принципов. Другими словами, по И. Канту, культура – это цель, цивилизация – средство для достижения этой цели, а человек в этой ситуации выступает в качестве морального субъекта, действующего согласно трем формам категорического императива, по сути своей сводимым И. Кантом к одному принципу: «…звездное небо надо мной и моральный закон во мне…», свидетельствующему о разумной взаимосвязанности и взаимозависимости всего существующего.
В качестве иллюстрации этого положения мы можем привести цитату И. Канта из его «Заметок в книге «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного»: «Чрезвычайно важно для человека знать, как надлежащим образом занять свое место в мире, и правильно понять, каким надо быть, чтобы быть человеком.
Но если он признает лишь пустую любовь или удовольствия, которые, правда, лестны для него, но для которых он не создан, – удовольствия, противоречащие установлениям, указанным ему природой, если он признает нравственные свойства, имеющие внешний лоск, то он будет нарушать прекрасный порядок природы и только уготовит гибель себе и другим: он покидает свое место, раз его уже не удовлетворяет быть тем, к чему он предназначен. Поэтому он выходит из человеческой сферы, он ничто, и созданный этим пробел распространяет его гибель на соседние с ним члены…» То есть согласно И. Канту очевидна взаимосвязь между назначением человека и последствиями, происходящими от его деятельности и имеющими тот или иной характер.
По поводу цивилизованного человека И. Кант отозвался следующим образом: «…В цивилизованном состоянии люди становятся умными очень поздно, так что можно было бы вместе с Теофрастом сказать: жаль, что перестаешь жить как раз тогда, когда только начинается расцвет жизни…»
Поэтому согласно И. Канту человеку как существу прежде всего разумному и моральному необходимо руководствоваться категорическим императивом, выражающим долженствование, основанное на нравственных приоритетах: «...Сколько бы ни было естественных оснований, побуждающих меня к хотению, сколько бы ни было чувственных возбуждений, они не могут быть источником долженствования, они могут произвести… условное хотение, тогда как долженствование, провозглашаемое разумом, ставит этим хотениям меру и цель, даже запрещает их или придает им автори-тет»1. В «Метафизике нравов» И. Кант так определяет понятие долга: «Собственное совершенство и чужое счастье»2.
Но почему же Э. Кассирер, определяя «символ» как «функцию», как «метод», как «посредник» и говоря о том, что символ является ключом к природе человека, в заключение «Опыта о человеке» приходит также и к функциональному пониманию сущности человека: «…Человек более не рассматривается как простая субстанция, сущая в себе и способная к самопознанию. Его единство понимается как единство функциональное…»? То есть получается, по Э. Кассиреру, что человек – это всего лишь функция? Но если понимать человека как функцию, а функ-цию как средство, то человек согласно такой интерпретации может выступать и в качестве средства. А это противоречит кантовскому пониманию практического разума, который подчиняется категорическому императиву, имеющему всеобщий характер и требующему относиться к другому человеку не как к средству, но как к цели.
Правомерно ли, исследуя какую-либо вообще характеристику в определении того, что есть человек, например, Homo sapiens, Homo faber, Homo politicus, Homo sociologicus, Homo loquens, Homo grammaticus, Homo ludens и другие, отождествлять сущность человека с этой характеристикой? То есть определять Homo sapiens как «человека-разум», Homo politicus как «человека-политику», Homo ludens как «человека-игру», а Homo symbolikum как «человека-символ»?
В случае символического определения человека Э. Кассирером остаются нерешенными вопросы цели и оснований той или иной символической деятельности. Решить их помогает характеристика человека, предложенная И. Кантом, – Homo moralis, обращающая свое внимание на побудительные мотивы деятельности человека и на ее последствия, что говорит в пользу большей состоятельности именно морального определения человека.
Сложно сказать, насколько Homo moralis является абсолютной характеристикой. Однако из всех определений человека, существовавших когда-либо, – мы согласны с И. Кантом, – оно является наиболее адекватным в понимании его сущности. Поскольку позволяет уравновесить современное превосходство цивилизации над культурой, устраняя его негативные последствия, а поэтому помочь решению проблем отчужденности, маргинальности благодаря обращению человека к основам бытия, а также на представление о самом себе, на самопознание, способствуя его духовному совершенствованию и тем самым восстановить позитивные взаимоотношения человека и окружающего его мира.