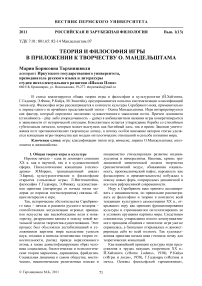Теория и философия игры в приложении к творчеству О. Мандельштама
Автор: Тархнишвили Мария Борисовна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1 (13), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется общая теория игры в философии и культурологии (Й.Хейзинга, Г.Гадамер, Э.Финк, Р.Кайуа, М.Эпштейн), предпринимается попытка систематизации классификаций типов игр. Философия игры рассматривается в контексте культуры Серебряного века, применительно к лирике одного из ярчайших представителей эпохи - Осипа Мандельштама. Игра интерпретируется как фактор, который определил эволюцию художественного мышления поэта. Причем доминанта (стихийность - play либо упорядоченность - game) в амбивалентном явлении игры конкретизируется в зависимости от исторической ситуации. Константным остается утверждение борьбы со стихийным губительным началом, которым может выступать как бытийный хаос, так и время. Законам уничтожения поэт противопоставляет творческую логику, а потому особое внимание автором статьи уделяется концепции игры-творчества как модели онтологических отношений и способа познания мира.
Игра, классификации типов игр, мимесис, лирика о.мандельштама, аполлонизм и дионисийство
Короткий адрес: https://sciup.org/14728976
IDR: 14728976 | УДК: 7.01:
Текст научной статьи Теория и философия игры в приложении к творчеству О. Мандельштама
-
1. Общая теория игры в культуре
Игровое начало – одна из доминант сознания ХХ в. как в научной, так и в художественной сферах. Психологические концепции («психодрама» Я.Морено, трансакционный анализ Э.Берна), культурологические и философские открытия («языковые игры» Л. Витгенштейна, философия Г.Гадамера, Э.Финка), художественная практика (литература от начала эпохи модерна до периода постмодернизма) связаны общим интересом к игре.
Так, исторические обстоятельства Серебряного века – начала и расцвета русского модерна – способствовали актуализации игровых принципов искусства как высвобождение воли к новаторству, разрушению канона и поиску новой витальной модели творчества-существования. Этот процесс был обусловлен дестабилизацией и усложнением картины мира вследствие успехов наук, техники и натиска позитивизма: теория относительности, распад прежде неразложимого атома, а также демистифицирующие образ человека социальные, биологические и психологические теории марксизма, дарвинизма, фрейдизма. Социальная динамика в самом обществе, мистические, неканонические религиозные поиски и ницшеанство стимулировали развитие индивидуализма и имморализма. Наконец, кризис традиционной миметической модели творчества (реалистический модус, обнаженная социальность, проповеднический пафос, народность как фольклоризм и орнаментальность) побуждал к поиску новых форм, соприродных динамичной и все-таки рефлексивной современности.
Игру в Серебряном веке принято ассоциировать с ницшеанством, но правильнее рассматривать ее философию и теорию в контексте всей тенденции культурного самосознания ХХ в., открывшего игру как принцип функционирования культуры и стремившегося онтологизировать ее в условиях крушения картины мира. Следствием становилось утверждение нового коммуникативного принципа общения с читателем: игра уже не скрывалась, а буквально открывалась и демонстрировала себя во всей полноте. Так художественная практика начала века готовила почву для теоретических концепций.
Как важнейший принцип культуры игра представлена в трудах ведущих теоретиков ХХ в.: Й.Хейзинги («Homo Ludens», 1938), Р.Кайуа («Игры и люди», 1958), Г.Гадамера («Истина и метод. Основы философской герменевтики»,
1960), Э.Финка («Основные феномены человеческого бытия», 1979), а также в отечественной традиции: у М.Эпштейна («Парадоксы новизны», 1989; «Постмодерн в русской литературе», 2005) и И.Медвецкого («Игра ума, игра воображенья», 1992). Возникает необходимость систематизации этих концепций и их классификации.
Прежде всего, следует рассмотреть вопрос генезиса игры как таковой. Так, Й.Хейзинга выводит игру в сфере культуры из игры природной: «игра старше культуры» [Хейзинга 2004: 13], что предполагает сходство игр животных и людей. Г.Гадамер идет дальше, отмечая даже в неживой природе главный, на его взгляд, игровой элемент: «движение как таковое» [Гадамер 1988: 148]: игра волн, красок и света. С другой стороны, по замечанию Э.Финка, игра есть экзистенциальный, а потому присущий лишь человеку фактор: «не сама природа играет, а мы сами, по существу игроки, усматриваем в природе игровые черты» [Финк 1988: 374]. Действительно, и в живой природе, и в культуре игра демонстрирует начала витальности, агональности и приспособляемости, но в сфере культуры в игру включается и новый компонент – свобода. Как способность поступать в соответствии с собственными ценностями, противостоять обстоятельствам и инстинктам, она доступна лишь homo sapiens. Этим объясним тот факт, что начальные классификации игр берут за основу именно степень свободы – лишь позднее выделяются ее более дифференцированные разновидности.
Сложность явления затрудняет его однозначное определение: «Игра есть такой экзистенциальный феномен, который, вероятно, более всех остальных отталкивает от себя понятие» [Финк 1988: 380]. Философы начинают с описания свойств игры. Игра сочетает качества организации и свободы. С одной стороны, она организована по четким правилам: игра «со всей шкалой внутреннего напряжения… никогда не выходит за свои пределы» [там же: 364], обладает особым хронотопом, выводя игрока из обыденной жизни в «собственное имманентное настоящее» [там же: 377], обеспечивая единство времени и места действия. Тем самым она устанавливает порядок, творя «ограниченное совершенство» в «несовершенном мире» [Хейзинга 2004: 28]. Следствием этого становится тот факт, что игра «принципиально повторима» [Гадамер 1988: 156], обнаруживает характер не только «энергейи», но и «эргона» (к примеру, в форме ритуала в культуре или рефрена в поэзии). С другой стороны, игра свободна как от внешнего диктата, так и от утилитарных целей – это «некое излишество» [Хейзинга 2004: 24], а «цель и смысл – в ней самой»
[Финк 1988: 364]; «подлинный игрок играет ради того, чтобы играть» [там же: 365].
Не имея цели, игра парадоксальным образом обеспечивает витальную потребность человека в обретении свободы, «возвращении в истинное бытие» и «выявлении того, что есть…, что в других условиях всегда скрывается и ускользает» [Гадамер 1988: 158]; игра – «основной способ человеческого общения с возможным и недействительным» [Финк 1988: 363], празднование человеком своего бытия: «Игра происходит в разрыве между потенциальным и актуальным, как самоценное раскрытие потенций за пределом их актуализации» [Эпштейн 2005: 300].
Легкость игры не исключает сакральности и серьезности в безусловном подчинении правилам, которые она «сама же и ставит» [Финк 1988: 366]. Потому игра не есть забава, прерогатива детского возраста, но «возможность человека вообще» [там же]. Игра имморальна: «вне противоположности “мудрость-глупость”» [Хейзинга 2004: 21], вне категорий добра и зла.
Двойственность категорий свобода– организованность, эргон–энергейя, бесцель-ность–витальность, легкость–сакральность можно связать с антиномичностью основных полюсов игры. Так, у Й.Хейзинги игра раздваивается на игру как сакральный ритуал с настроением «священного восторга» и игру как забаву, с настроением восторга «праздничного, не освященного высшей целью» [Хейзинга 2004: 214]. В процессе творчества эти начала соединяются: экстатический импульс фантазии претворяется в произведение искусства по правилам игры-искусства.
Два способа бытования игры у Й.Хейзинги выделяются имплицитно, но не терминологически. Его последователь, французский антрополог Р.Кайуа, обозначает эти версии игры с доминантой порядка и доминантой стихии как Paidia и Ludus. В первом случае это безудержная импровизация, стихийная процессуальность, игра-шалость, отвергающая норму, но тем признающая ее существование. Во втором – контроль и игра по правилам.
На наш взгляд, более точное терминологическое разделение по принципу организованности / стихийности дал М.Эпштейн: game как игра по правилам, «внутренне более организованная, чем окружающая жизнь», и play как стихийное и свободное действо, не связанное рамками, преодолевающее «ограничения серьезной жизни» [Эпштейн 2005: 305]; задача ее – взорвать упорядоченный мир, обнаружив его единство. В первом случае, как на олимпийском состязании или на турнире, человек противопоставляется чело- веку (агональность), во втором – как на дионисийском празднестве или карнавале – объединяется с ним.
Исходя из вышесказанного, категорию игры можно описать при помощи двух основных признаков: имманентной динамичности и противоречивости, сочетающей свободу и организацию по правилам, внеположенность сфере материальной пользы и витальную необходимость, легкость и сакральность, динамическое становление и принципиальную повторимость результата, – все это при амбивалентной субъектности явления.
Данные три вида классификаций можно обозначить как классификации дуалистического типа: они рассматривают онтологию, сущностный принцип и организацию игры, исключая актуализацию переживаний субъекта: «субъект игры – и это очевидно в случаях, когда играющий один, – это не игрок, а сама игра» [Финк 1988: 151], так играющий репрезентирует и себя, и игру.
Другой тип классификаций – более детальный и дифференцированный – может быть назван дробным. Игровой субъект здесь уже не игра, а игрок, со своими целями и способами реализации игры. Р.Кайуа выделяет четыре типа игр, от максимального Ludus к максимальному Paidia. Первые два типа, как видовые категории, соотносятся с игрой-game, последние – с игрой-play:
-
1. Состязательная игра « A GON » («борьба») – игра соперников ради выигрыша, утверждающая роль труда, терпения и ответственности.
-
2. Азартная игра « A LEA » («игра в кости») – игра ради выигрыша при выявлении милости случая; шансы на победу тут сложнопредсказуемы, труд и терпение не столь важны.
-
3. Подражательная игра « M IMICRIA » («подражание») – ситуация «актер и роль», игра масок с максимальным жизнеподобием, когда игрок выдает себя не за того, кто он есть (театр, маскарад, этикет, униформа и т. п.). Игру-mimicria можно связать не только с ситуацией перевоплощения, но и с мимесисом – основным эстетическим законом творчества: не самоотрицание в принимаемой маске, а точное воспроизведение объекта (и это уже игра-game, предполагающая узнавание).
-
4. Экстатическая игра « I LINX » («головокружение») – здесь человек не ищет партнера для игры, а сам нарушает состояние стабильности, стремится потерять самотождественность во имя ощущения духовной амплитуды бытия.
-
2. Теория игры-творчества и лирика О.Мандельштама
Все упомянутые классификации могут быть применены для анализа художественных произведений: по определению Э.Финка, «игра есть корень всякого человеческого искусства» [Финк 1988: 402]. В сфере литературы об игре можно говорить в отношении всех трех родов: не только драмы (генетически обусловленная игра-mimicria, игра масок) и эпоса (игра-agon: сюжет как «серия препятствий, которые необходимо преодолеть герою, чтобы достичь цели» [Эпштейн 2005: 310]), но и лирики. Лирика – «экстатическая игра в сфере слова» [там же], игра-ilinx, рожденная ощущением полноты бытия, опьяняющая звуком, ритмом и переосмыслением образов до головокружения. По Й.Хейзинге, «поэзия… рождается в игре и как игра» [Хейзинга 2004: 198], это деятельность в «определенных рамках места, времени, смысла» [там же: 214], характеризуется напряженностью и парадоксальным сочетанием наличия правил организации текста и свободы.
В данной классификации Р.Кайуа актуализирует сознание субъекта игры, его цели и мотивацию, разные степени его свободы от себя и от партнера, что создает, на первый взгляд, сложно- сти в отождествлении видовых типов с родовыми game и play, но сущности это не меняет.
Различные игровые интенции и установки могут перекрещиваться в сознании художника, а исследователь называет избираемые пути подходящими терминами вне зависимости от степени осознанности игры. Так, Р.Кайуа озабочен коммуникативными установками и возможностью оценки игры с точки зрения степени нравственности или общественной значимости, он рассматривает игру как явление в реализации его потенциалов (феноменологически), в то время как Й.Хейзинга и М.Эпштейн интерпретируют явление само по себе (онтологически). Демонстрируемая многосложность комбинаций – свидетельство богатства самого явления игры.
В культуре Серебряного века природная игра слов и форм осознается как модель онтологических отношений, что ярко проявилось в лирике Осипа Мандельштама. Игра не только реализовалась в его стихах акмеистического периода, но и определила эволюцию художественного мышления поэта. Само подражание творца космосу у Мандельштама воплощается как игра: играет и смеется хрусталь «неживого небосвода» («Сусальным золотом горят», 1908) [Мандельштам 1991 1: 3]; «в небе танцует золото – // Приказывает мне петь» («Я вздрагиваю от холода», 1912) [там же 1: 16]. Итог игры как языка претворения действительности в искусство – радость удивления (в данном случае – новизне звучания собственных слов); по Мандельштаму, это «единст- венное, что толкает нас в объятия собеседника» («Утро акмеизма», 1912) [там же 2: 239]. Более того, сам смысл текста рождается в игре автора и собеседника с его понимающим чтением и «исполнительским порывом» («Разговор о Данте») [там же 2: 413], так как поэзия есть не результат, а становящийся процесс.
Творчество сочетает начала спонтанности play и организованности game. В синтетической классификации игры, предложенной И.Медвецким, для обозначения парадоксального единства свободной воли и правил вводится термин игра-art [Медвецкий 1992: 188], воплощающаяся на трех уровнях (либо как художественная реальность произведения, либо как создание новых произведений в пределах текста, либо как моделирование будущих произведений автором на основе его сублимированного отношения к своей жизни как к материалу для этого). Однако этот синтез, предлагаемый исследователем как универсальный творческий принцип, нуждается в уточнении: игра-art соотносима со всеми видовыми подтипами в различных комбинациях, может проявляться не только как синтез game и play, но и как agon, alea, mimicria и ilinx. Дионисийские alea и ilinx, дающие возможность свободного испытания сил, опьянения звуком, ритмом, переосмыслением, противостоят аполлони-ческим agon и mimicria, акцентирующим подражание образцам, источник которых – природа или классика. Цель аполлонического начала – это не просто самоутверждение, но победа над стихией и утверждение порядка. Два начала могут вступать в поединок в поиске как аксиологически объективных критериев подлинности (mimicria узнаваемому), так и критериев субъективных, психофизологически очевидных для автора (ilinx). В творчестве это, с одной стороны, совершенство абсолютных пропорций, «золотое сечение» (mimicria бытийному); с другой – интуитивный поиск абсолютной новизны звука и слова, образа и ритма, экспрессия (ilinx).
Яркий пример игры-art – образ собора Нотр-Дам у Мандельштама, синтезирующий гармоническую аполлоническую упорядоченность и стихийный дионисийский размах. Католический храм наделен зоо- и антропоморфными характеристиками (игра-mimicria): «Как некогда Адам, распластывая нервы, // Играет мышцами крестовый легкий свод» («Notre-Dame», 1912) [Мандельштам 1991 1: 24], и в игре тяжелый камень преодолевает собственную тяжеловесность, превращаясь в воздушное готическое кружево. В творческом акте (игра-agon) играющий мастер способен превратить «недобрую тяжесть» в прекрасное, которое остается на века, претворить стихию природного материала в явление культуры, преображенное гармонией: «стихийный лабиринт, непостижимый лес, // Души готической рассудочная пропасть» – воплощение опьяняющей силы в игре-ilinx [там же].
Важно, что в поэтическом сознании Мандельштама начало, терминологически выраженное как игра-ilinx, было связано прежде всего с дионисийским началом (интерес унаследован опосредованно скорее от В.Иванова, чем от Ф.Ницше). Дионисийство представлялось способом преодолеть бытийный трагизм одиночества и, опьянившись свободой, ощутить связь с бытием.
Синтез аполлонического и дионисийского начал, игры стихийной и игры по правилам, воплотился и в стихотворениях, посвященных музыкальному искусству. Сама музыка являет идеальный пример игры: подчинена ритму, протекает внутри ограниченного пространства, выводит из сферы «обычного» бытия; она вне рациональности, вне сфер нужды или пользы. С одной стороны, как светлое аполлоническое искусство, музыка воплощает связь с первоосновой бытия, это чистая «кристаллическая нота» («Silentium», 1910) [Мандельштам 1991 1: 9], игра-game. С другой – музыка как стихийная игра-play – заглушающая и пьянящая стихия, погружающая в экстатическое состояние. Данные амбивалентные начала синтезируются в поэтическом сознании в образе Баха как молящегося бунтаря и гения стихии, «рассудительнейшего» творца-теурга и «гневного собеседника» («Бах», 1913) [там же 1: 28]. Аполлонически рационалистическая мощь доказательств оборачивается свободной и стихийной мощью дионисийской проповеди.
То же скрещение типов игры прослеживается и в жертвенно-героических стихотворениях О.Мандельштама о веке и времени послереволюционного периода (1920-е гг.). Время существует по законам игры-mimicria, что предполагает принципиальную изменчивость и метаморфозы [Кайуа 2007: 52], вплоть до оборотничества. В одноименном стихотворении век – зверь с перебитым позвоночником («Век», 1923), позднее – разбившийся в беге конь («Нашедший подкову», 1923), затем – жалкий умирающий Вий-старик («1 января 1924»), после – век-волкодав («За гремучую доблесть грядущих веков», 1934). Причем константная характеристика сбившегося с оси стихийного мимикрирующего времени – поврежденность.
В самой экзистенциальной игре со временем вычленяемы такие характеристики, как стихийность, неопределенный исход и идеи риска. Иг-ра-agon, с ее утверждением роли труда и ответ- ственности во имя выигрыша, обращается в игру случая alea, где шансы на победу непредсказуемы. Стабильная игра по правилам становится приметой прошлого, а в настоящем царит случай.
Перебитые позвонки века-зверя у Мандельштама связываются с еще одним важнейшим образом – играющим ребенком: «дети играют в бабки позвонками умерших животных» («Нашедший подкову», 1923) [Мандельштам 1991 1: 105]. Сам образ – аллюзия на гераклитову метафору вечности (философ сравнил вечность с ребенком, то выигрывающим, то проигрывающим в кости) – опять же воплощение игры-alea.
Если время существует по законам стихийной игры-play, то герой-художник вступает в игру со временем, подсознательно следуя правилам мифологического ритуала (смерть старого мира и возрождение через жертву): возможность «вырвать век из плена» и «новый мир начать» («Век», 1923) [там же 1: 102] кроется в творчестве, метафорой которого становится флейта.
Новое ритуальное правило утверждается в рискованном испытании собственной судьбы и призвания, когда голодный век, оставив оттиски зубов на монетах, пытается «срезать» самого героя; совершается выход за пределы своего я (трансформация игры-ilinx): «Время срезает меня, как монету, // И мне уже не хватает меня самого» («Нашедший подкову», 1923) [там же 1: 106]. Для самого героя радостное утверждение свободной игры и героический пафос уступают место страху в этой игре, страшной хотя бы тем, что из нее нет выхода. Возникает контроверза: по определению игра есть свободное действие, из которого в любой момент игрок может выйти, игрок в принципе «над» ситуацией, и для него нет места страху. Но в условиях эпохальной игры поэт не имеет такой возможности, не может отказаться от избранного пути, принимая и разделяя судьбу своего поколения, которое также становится жертвой времени. Категория «игрового» обратилась в категорию «серьезного». Так Мандельштам онтологизирует художественную, поэтическую игру.
Рассматривая эволюцию теории и практики О.Мандельштама, можно сделать вывод, что доминирование полюсов – аполлоническая упорядоченность game либо стихийная дионисийская игра-play – детерминировано исторической ситуацией и самоощущением поэта. Чем ненадежнее и «изветливей» (окказиональный эпитет из «Стихов о неизвестном солдате», 1937) [там же 1: 244] время и его игра с человеком, тем стихийнее игра воображения. Чем яснее время – пусть и в плане трагической безысходности, – тем монументальнее стихи Мандельштама.
Универсальным является утверждение борьбы со стихийным губительным началом (хаосом, временем), существует ли это начало по законам play (и тогда, как в архитектурных стихах, творец приводит хаос в гармонию) или законам game. Назначение поэта было заявлено Мандельштамом еще в 1913 г., в манифесте «Утро акмеизма»: строить, «бороться с пустотой, гипнотизировать пространство» [там же 2: 323] – это агон с хаосом во имя утверждения космоса.
Закону времени – убийственному причинноследственному порядку, в котором человек вынужден причащаться смерти, выпивая содержимое «игольчатых чумных бокалов» («Восьмистишия», 1933), – поэт противопоставляет чудо творческой игры-play, выводящей в мир иных измерений, уничтожающих «самосознанье причин» и предлагающих «дикий лечебник» от чумы-смерти [там же 1: 201–202].
Однако игра-art, синтезирующая спонтанность и организацию, остается родовой по отношению к принципу творчества в ХХ в., отрицающему диктат традиции, но соединяющему познание природы искусства со свободным экспериментом художнических стратегий (поведением, образом мышления, философией творчества, поиском новых форм, а относительно литературы – с особой организацией пространства текста). Многосложность игры обеспечивает ее релевантность как принципа отображения мира и отношений с ним.
Post-graduate Student of Irkutsk State University
Teacher of Russian Language and Literature
School of intellectual development «School +»
Список литературы Теория и философия игры в приложении к творчеству О. Мандельштама
- Гадамер Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М: Прогресс, 1988. 704 с.
- Кайуа Р. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры. М.: ОГИ, 2007. 304 с.
- Мандельштам О.Э. Собрание сочинений: в 4 т./под ред. Г.П.Струве и Б.А. Филиппова. М.: Терра, 1991. Т.1. 684 с.; Т.2. 730 с.
- Медвецкий И. «Игра ума, игра воображенья…»: метод анализа художественного текста//Октябрь. 1992. №1. С.188-192.
- Финк Э. Основные феномены человеческого бытия//Проблема человека в западной философии: Переводы/сост. и послесл. П.С.Гуревич. М.: Прогресс, 1988. С.357-402.
- Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня/пер. с нидерланд. М.: ООО «Изд-во АСТ», 2004. 539 с.
- Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе. М: Высш. шк., 2005. 495 с.