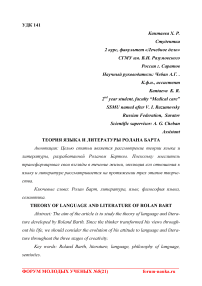Теория языка и литературы Ролана Барта
Автор: Кантаева Х.Р.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 5-2 (21), 2018 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является рассмотрение теории языка и литературы, разработанной Роланом Бартом. Поскольку мыслитель трансформировал свои взгляды в течение жизни, эволюция его отношения к языку и литературе рассматривается на протяжении трех этапов творчества.
Ролан барт, литература, язык, философия языка, семиотика
Короткий адрес: https://sciup.org/140282743
IDR: 140282743
Текст научной статьи Теория языка и литературы Ролана Барта
Философия двадцатого столетия характеризуется повышенным вниманием к проблеме языка и общества. Первая тенденция, например, привела к появлению философии языка (аналитической философии). Вторая связана с обращением мыслителей к достижениям структурной антропологии, а также результатам социологических исследований. Обе этих тенденции нашли своё отражение в творчестве Ролана Барта (1915-1980), который по праву считается одним из основателей современной структуралистской и постструктуралистской традиции. Однако, Барт не пошёл по пути аналитической философии – в своём исследовании языка он обращается к семиотике, развивая оригинальное учение о знаке, а также обновляя риторическое знание. Хотя философские интересы Ролана Барта были широки, «можно выделить основную тематику не только всего его творчества, но и структуралистской традиции в целом – принципы и методы обоснования знания» [4, с. 75]. В нашей статье мы коснёмся теории языка Барта в связи с его рассмотрением литературы.
В творчестве Ролана Барта можно выделить три этапа мысли (1950-е гг., когда философ находится под влиянием марксизма и экзистенциализма; 1960-е гг., когда творчество Барта определено рамками семиотики и структурализма, и 1970-е гг., в которые мыслитель занимает позицию постструктуралиста и постмодерниста). Однако этот порядок не будет лишен ряда условностей. В связи с этим мы будем анализировать работы разных лет, стараясь при этом проследить внутреннюю логику развития мысли Барта, которая с самых ранних произведений носила в себе ряд черт постструктуралистского дискурса.
Обратимся, в первую очередь, к первой его значительной работе — «Нулевой степени письма», которая была издана в 1953 году.
Изначально перед писателем стоит выбор между некоторыми языковыми моралями, то есть писателю, говорит Барт, необходимо означить Литературу. Отныне Литература есть объект рефлексии, и писателю предстоит либо принять правила, либо отвергнуть их, благодаря чему писатель больше не выражает некую истину, а становится носителем определенной формы. Так в Литературе происходит разлом, ознаменовавший уход эпохи классического письма. Таким образом изменяется статус Литературы, она обретает вес и отныне воспринимается как новое слово, наполненное истиной и тайной, и более не является, как ранее, способом привилегированного обобщения. Писателю остается только, как уже было сказано, вступить в отношения с формой - либо приняв ее, либо отвергнув, не имея при этом никакой возможности ее сломать, не сломав себя как писателя.
Итак, письмо по Брату проходит в своем развитии четыре этапа, которые Барт обозначает как разглядывание - как то было у Шатобриана, когда письмо лишь на мгновение отделилось от своего практического назначения, чтобы вглядеться в собственный лик, производство, ибо Флобер превратил Литературу в объект, убийство, совершенное Малларме, который все свои силы направлял на разрушение слова и, наконец, искомое нулевое письмо, которое, по мнению Барта, пока что удалось осуществить лишь одному Камю. Нулевая степень - это последняя стадия, некое исчезновение, объединяющая в себе одновременно порыв к отрицанию письма и невозможность его практического осуществления.
Рассмотрим рассуждения Барта подробнее, обратившись к его определению основных понятий его «Нулевой степени письма».
Язык есть все те предписания и навыки, что характерны для авторов одной эпохи. Язык наполняет собой всякое слово писателя, не создавая при этом формы; язык это пространство и одновременно границы Литературы, и лишь при попытке выйти за их пределы можно открыть для себя надприродные свойства языка. За пределами языка писатель утрачивает возможность что-либо сказать, не потеряв при этом смысл сказанного.
Стиль - это, что дано автору от природы, стиль не может быть продиктован выбором и не является предметом рефлексии. Для Барта язык это гра- ница возможностей писателя, стиль же есть свидетельство необходимости и связи писателя с его словом.
Письмо находится между языком и стилем, где писатель уже должен принять на себя какие-либо обязательства. Превращая посредством письма свое слово в знак, писатель может поделиться ощущениями со своими читателями, таким образом, его речь, запечатленная в знаке, отвердевает в Истории. Так слово обретает свое социальное назначение. Именно с возникновением письма в Литературе определяется проблематика, ибо стиль и язык находятся прежде проблематики, они вне ее. Писатель становится рабом письма из-за одного только решения изобразить свою мысль на бумаге. Писатель волен в выборе письма, что может, казалось бы, свидетельствовать о его свободе, но границы такой свободы в разные периоды время различны: история и сложившиеся в определенную эпоху традиции ограничивает писателю выбор. Действительно, в момент выбора автор еще свободен, но он тут же теряет свою свободу после свершения выбора.
Барт противопоставляет письмо разговорной речи, и вот почему: письмо, в отличие от речи, некоммуникативно; письмо это застывший язык. Письмо обращено внутрь себя, тогда как разговорная речь представляется Бартом как набор пустых знаков, обретающих смысл только благодаря своему непрерывному движению.
Определившись с понятиями, Барт рассматривает некоторые типы письма, первое из которых письмо политическое. Задача политического письма состоит в объединении фактов и целей, в котором слово одновременно является и фактом, и его оценкой. Политическое письмо, в свою очередь, включает в себя некоторые виды письма, такое, например, как письмо революционное, в котором, по утверждению Барта, речь максимально фальшива, письмо, в котором эмоциональная выразительность является его самосознанием: «такое письмо давало право либо на кровь, либо на оправдание» [4, с. 41]. Иной вид политического письма - марксистское письмо, абсолютно за- мкнутое и второго кодифицированное, письмо, в котором реальность изображена уже в оцененном виде. Собственно, любой политической режим обладает своим письмом. Интеллектуальное письмо - это письмо журналиста, свободное от стиля и применяющееся как профессиональное. Для Барта такие общие виды письма приводят в тупик, и, следовательно, к отчуждению.
Иначе рассматривает Барт письмо романа. С таким письмом Барт связывает два аспекта, непрестанно сопровождающие Роман: это использование простого прошедшего времени (le passe simple) и повествование от третьего лица. Рассмотрим эти аспекты.
Простое прошедшее время, исчезнув из разговорной речи, уже является частью Изящной Словесности, служит основной цели повествования - его способности к развертыванию. Использование простого прошедшего времени является лучшим способом для изобретения замкнутых, обособленных языковых пространств - мифологий, романов, историографий; и в этом времени всегда существует возможность разглядеть за повествованием тень создателя - автора или Бога, способного обозначить причинно-следственные связи и, как следствие, исключить любую случайность. Простое прошедшее время выступает в произведении как некое воплощение упорядоченности, не позволяя повествованию покинуть границы языка.
Однако употребление простого прошедшего времени в романе это показатель его лживости, ложь при этом не скрывает себя, и роман сам говорит о своей искусственности. Создавая замкнутый и, казалось бы, правдивый мир, простое прошедшее время одновременно с этим заявляет о его фальшивости; цель Романа в том, чтобы, «надев маску, тут же указать на нее пальцем» [3, с. 47].
Второй аспект, присущий письму Романа это повествование от третьего лица. Местоимение «он», как и простое прошедшее время, указывает на сам факт наличия романа; третье лицо в таком случае является как бы гарантом безопасности, что перед нами правдивый вымысле, который, конечно же, оказывается лживым. Третье лицо в романе для Барта - это свидетельство трагедии разобщения Литературы и ее потребителя. Итак, этот акт созидания и, одновременно, разрушения свойственен искусству в целом, где длительность и упорядоченность есть акты предумышленного убийства; роман для Барта - воплощенная смерть [3, с. 51]. Писатель нуждается в том, чтобы его переживания смогли застыть на бумаге и превратиться в продукт потребления, и для этого автору требуется искусственно созданная система знаков, результатом которой и становится письмо, которое свидетельствует о том, что автор причастен к Литературе и вовлечен в круг собственного отчуждения.
Рассматривая поэзию и поэтический язык, Барт указывает на различие современной и классической поэзии, говоря о классической поэзии как о варианте прозы, выраженной более изящно, как неком ее аналоге, имеющим исключительно декоративные функции. Чего нельзя сказать о поэзии современной, которая, по Барту, восходит к Рембо, в которой утверждается свое собственное, самодовлеющее слово, в которой происходит отрицание поэзии как декорации языка, и отныне современная поэзия не требует опознавания знаками, ибо она заключена в самой себе.
Современная и классическая поэзия находятся в состоянии противоборства. Классическая поэзия, соблюдая традиции предшественников, противиться всякому созданию индивидуального, и заключается лишь в расположении слов в соответствии с требованиями, при этом значение имеет лишь сочетание слов, но не их собственная красота.
Современная поэзия ставит на первое место слово, отношения же между словами вторичны и выступают как дополнение. В современной поэзии читатель сталкивается один на один со словом, которое является перед ним во всей соей многозначности; в классической же поэзии значение слова предопределено заранее, и оно может быть только одним. Представление о пространстве слова, освободившегося от предустановленного значения, ана- логично рассуждениям М. Хайдеггера об «открытом просторе», в котором развертывается игра смыслов слова [5, c. 112]. Слово современной поэзии приведено в своей нулевой степени, что до сих пор было возможно разве что в словаре, современная поэзия - это застывшие во время движения слова, это есть объективная поэзия. Такая поэзия отрицает гуманизм, человека и являет только самые обесчеловеченные образы природы. (Подобное суждение можно наблюдать у Х. Ортега-и-Гассет в работе «Дегуманизация искусства»: искусство перестает чувствовать потребность существовать для каждого человека и являться общепонятным. Переживание, которое вызывает современное искусство не служит цели сближения людей с повседневностью, а, напротив, вызывает отчуждение: новое современное искусство предполагает «дегуманизированность»).
Действительно, можно обнаружить, вслед за другими исследователями, в философии Барта этого периода марксистские черты. Так, письмо рассматривается Роланом Бартом через диахронию, при этом выделяются четыре исторических этапа, отражающие разнообразные преображения письма. Язык письма для Барта надындивидуален , он «горизонт, т.е. одновременно территория и ее границы» [3, с. 312], стиль индивидуален, и поскольку язык есть отражение общества, а стиль – отражение индивидуального опыта, то стиль является в этом смысле сферой свободы индивида, заключающейся в его социальном выборе.
По Барту, «Письмо — это не что иное, как компромисс между свободой и воспоминанием, это воспоминающая себя свобода, остающаяся свободой лишь в момент выбора, но не после того, как он свершился», — то есть, мы можем сказать, что пишущий свободен только в момент письма, когда же оно закончено, то вместе с ним заканчивается и свобода. Так как от пишущего текст больше не зависит, то здесь можно говорить об идее смерти Автора: «писать — значит предоставлять другим заботу о завершенности твоего сло- ва; письмо есть всего лишь предложение, отклик на которое никогда не известен» [3, с. 324].
История письма у Барта выглядит следующим образом: 1) сначала оно – объект разглядывания, затем 2) объект производства, далее 3) объект убийства, и, в итоге, 4) объект исчезновения. В четвертом этапе прослеживается постструктуралистская мысль и подобие метафизики отсутствия, этому этапу соответствует «нулевая степень» письма, которая означает выход за рамки социального: оно сводится к «своего рода негативному модусу, где все социальные и мифологические черты языка уничтожаются, уступая место нейтральной и инертной форме» [3, с. 325]. Наивность письма, его прозрачность связывается Бартом со стремлением к предельной честности автора, отклоняющегося от любой формы идеологии. Однако это попросту невозможно: «Общество объявляет <...> письмо одной из многих литературных манер и тем самым делает узником его собственного формотворческого мифа» [3, с. 325]. Этот мотив бунта против идеологии любого рода присущ Барту-структуралисту и в «Нулевой степени письма», и в «Мифологиях», как, впрочем, и пессимистическое признание обреченности подобного бунта.
В вышеупомянутом произведении философ анализирует различные случаи присутствия «мифа» в культуре, то есть неявных смыслов в «коллективных представлениях» как знаковых системах: одной из предпосылок такого анализа, как признается сам Барт, была критика языка буржуазного общества (с другой стороны, философ выходит за его пределы, указывая на общечеловеческий язык). Рассмотрим подробнее его анализ мифа и то, какую перемену пережила мысль самого Барта в связи с ним.
По Барту, миф – это вторичная семиологическая система, которая построена на совокупности означающего и означаемого как знака, он образует надстройку, делает означающим наличный знак. Язык первичного знака называется у Барта объект-языком, наличного знака – метаязыком. В качестве примера мыслитель приводит фотографию из журнала, на которой юноша-негр отдает честь французскому флагу. Поясняя Барта, можно так представить описанную им структуру: первичный знак содержит означающее в виде объектов на фото, означаемым является образ, который запечатлевал фотограф на снимке (реальный негр, реальный флаг); знак же на уровне метаязыка содержит в себе фотографию с образами как означаемое и означающее — «Франция есть великая империя» или «Франции служат разные национальности» и т.д. Исходя из этого можно понять и то, как Барт представляет себе работу мифолога: как расшифровку такого рода знаков. (Философ предполагает три способа чтения мифа: как его создатель, как его рецепиент и как мифолог).
Барт говорит о «нулевой степени» по отношению к смыслу: «В мифе как таковом смысл никогда не бывает в нулевой степени <…> В сущности, одна лишь нулевая степень и могла бы противиться мифу» [2, с. 258]. Для Барта миф смыслообразующ и пронизывает собой структуру любого языка; «язык предрасположен к мифу» [2, с. 258]. Нулевую степень смысла возможно найти в поэзии. «В то время как миф стремится к сверхзнаковости, к амплификации первичной системы, поэзия, напротив, пытается вернуться к дозна-ковому, пресемиологическому состоянию языка» [2, с. 258], — говорит Барт. Но такая поэзия невозможна, поскольку, вследствие неуравновешенности системы, миф делает из нее пустое означающее, которое указывает на означаемое «поэзия».
На что же тогда способен мифолог? Реконструировать миф, мифологизировать, как пишет Барт. Именно это он полагает действительным возможным орудием против мифа – новый миф. Однако поскольку «сражение» ведется на уровне метаязыка, мифолог оказывается исключенным из политики, истории, из числа потребителей мифа; это не мешает бартовскому методологическому оптимизму, однако стоит отметить парадоксальность такой установки.
Итак, хотя Барт того периода и верит в работу мифолога, представление о ней неизбежно сталкивается с противоречиями; понятие же «нулевой степени» письма и смысла сохраняется у мыслителя и в данном произведении, хотя теряет свою силу. Тем не менее, оно оказывается значимым для более позднего периода творчества философа, как и вскрытые противоречия в деятельности мифолога. В предисловии ко второму изданию произведения Барт пишет: «семиологический же анализ, начатый <…> заключительным текстом «Мифологий», сделался более развитым, точным, сложным, многосторонним, он образует ныне, в наш век и в нашей западной цивилизации, ту область теоретического мышления, где может в какой-то мере состояться освобождение означающего» [2, с. 54]. Далее мыслитель отмечает, что именно поэтому не смог бы написать «Мифологий» еще раз в том же виде, в котором переиздает. «Освобождение означающего», однако, — не новая для него тема. В «Нулевой степени письма» он определял соответствующую литературу как денотативную и тем самым освобожденную от идеологии; при этом, однако, он говорил о «прозрачности» и тем самым однозначности языка, позже он заявит о множественности смыслов — в той же борьбе против идеологии.
Уже в 60-е годы Барт в ряде произведений переосмысливает роль письма, утверждая его возможность «отключения» от общества и истории. Причем если раньше Барт видел ее в «обнулении» смысла, то теперь письмо, с его точки зрения, противостоит коннотациям, которые присваивает словам естественный язык — ради системы вторичных значений.
В конце того же десятилетия и в 70-е годы («Смерть Автора», «S/Z», «От произведения к тексту», «Империя знаков», «Удовольствие от текста») Барт развивает эту идею, доводя до предела противостояние монополии на смысл множественности различных смыслов. Это, в частности, выразилось в дуализме Автор/скриптор, представляющем собой два различных образа составления, но в первую очередь прочтения текста. В первом случае мы пред- полагаем, что произведение — плод авторского замысла, который состоит в присваивании написанному устойчивого и единственного смысла; во втором случае пишущий — это лишь «скриптор», расставляющий на бумаге означающие, которые предстоит расшифровать читателю, причем рождающиеся в результате смыслы могут быть различными, множественными. Барт описывает это в эссе «Смерть Автора».
«От произведения к тексту» посвящено той же проблеме, но фиксирует ее решение в иных терминах: «произведением» Барт называет представления о написанном как завершенном смысловом единстве, текст же — сгусток различных смыслов, который и возникает сам не в процессе записывания, но благодаря актам прочтения. Благодаря этому текст теряет свою исчислимость (ведь он не заключен в совокупности написанных слов, но «рассеивается» в возможных толкованиях), жанровую принадлежность, замкнутость на себе. Именно то, что текст с неизбежностью включается в игру толкований, он оказывается связанным с другими текстами — это порождает интертекстуальность. Возникает важный и для дальнейшей постмодернистской мысли образ взаимосвязанного множества, в данном случае — сети: «Произведение отсылает к образу естественно разрастающегося, «развивающегося» организма <…> Метафора же Текста — сеть; если Текст и распространяется, то в результате комбинирования и систематической организации элементов» [1, с. 419].
Следовательно, мы можем сказать, что Ролан Барт в 60-70-е годы решает прежнюю, поставленную с постмодернистских позиций, задачу, но считает, что смысл требует плюрализации, а не очищения, пересматривая свои представления о способе решения.
Список литературы Теория языка и литературы Ролана Барта
- Барт, Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / Р. Барт - М.: Прогресс, 1989.
- Барт, Р. Мифологии / Р. Барт - М.: Издательство им. Сабашниковых, 1996.
- Барт, Р. Нулевая степень письма. Семиотика / Р. Барт - М.: Радуга, 1983.
- История философии: Энциклопедия. - Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2012.
- Чебан, А.Г. Авторские неологизмы в философских произведениях Мартина Хайдеггера [Текст] / А.Г. Чебан. - Саратов: Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2017. - 136 с.
- Чебан, А.Г. Окказиональные новообразования в философском дискурсе М. Хайдеггера [Текст] / А.Г. Чебан // Язык и мир изучаемого языка. 2015. № 6 (6). С. 276-279.
- К онтологии господства [Текст]: коллективная монография. М.: Издательский дом «Юность», 2007. - 151 с.