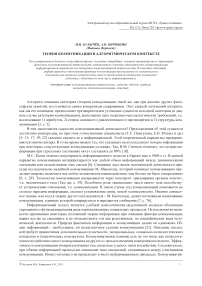Теория коммуникации в алгоритмическом контексте
Автор: Булычев Игорь Ильич, Кирюшин Алексей Николаевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (12), 2011 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются базовые логико-философские элементы (атрибуты, основное противоречие и структура) феномена коммуникативной деятельности, подвергается сомнению адекватность распространения информационной парадигмы исследования коммуникативной деятельности. В качестве оппозиции информационного толкования фактора коммуникации предлагается ее эмоциональное понимание как процесса установления связи и обеспечения всесторонних контактов субъекта с объектом (в том числе информационных).
Коммуникативная деятельность, субъект, объект, гратуал, ингратуал, технокоммуникация, симулякр
Короткий адрес: https://sciup.org/14821646
IDR: 14821646
Текст научной статьи Теория коммуникации в алгоритмическом контексте
Алгоритм описания категории (теории) коммуникации такой же, как при анализе других философских понятий, но отличается своим конкретным содержанием. Этот единый логический алгоритм, как мы его понимаем, предполагает предварительное уточнение сущности исходной категории (в данном случае категории коммуникации), выполнение трех теоретико-методологических требований, т.е. исследование 1) атрибутов, 2) сторон основного (диалектического) противоречия и 3) структуры коммуникации [3, с. 5].
В чем заключается сущность коммуникативной деятельности? Представления об этой сущности достаточно разнородны, но при этом отечественные специалисты (Г.С. Пшегусова, Е.Н. Юхвид и др.) [5; 13; 17; 19; 22] склонны сводить ее к информационной. Этой теоретической парадигмы придерживаются многие авторы. В то же время немало тех, кто указывает на колоссальную потерю информации при некоторых сопутствующих коммуникации условиях. Так, В.М. Снетков отмечает, что потери информации при стрессовых состояниях могут составлять до 80% [18].
М.С. Каган отмечал популярность информационного подхода в Европе еще в 1960-х гг. В данной парадигме коммуникация интерпретируется как любой обмен информацией между динамическими системами или подсистемами этих систем [6]. Смешение двух видов человеческой деятельности присуще исследователю медийной коммуникации М. Маклюэну, который понимает коммуникацию предельно широко, включая в нее любое человеческое взаимодействие, чем бы оно ни было опосредовано [9, с. 29]. Технологии коммуникации раскрываются через конструкт «расширения органов чувств», т.е. человеческого тела (Там же, с. 59). Подобного рода «вынесение» части своего тела способствует установлению отношений, т.е. коммуникации. В таком случае под коммуникацией понимается не столько передача информации, сколько установление связи, некой «совместности». Именно совместное знание, или код (в теории другого исследователя – М. Кастельса), делает возможным налаживание коммуникации, в рамках которой генерируются и передаются сообщения [7, с. 76].
Информационный подход является удобной номологически-дедуктивной моделью объяснения упрощенного функционирования ряда взаимосвязанных социальных процессов. Не исключая возможности применения некоторых положений теории информации при описании фактора коммуникации, важно все же не смешивать и не отождествлять эти два родственных, но специфических вида человеческой деятельности. Природа феноменов информации и коммуникации далеко не одинакова. Обмен информацией – необходимое, но недостаточное условие коммуникации [21]. Описание последней требует привлечения дополнительных (в частности, эмоциональных, социально-психологических) концептов и теоретических конструктов. Коммуникативное влияние есть не что иное, как психологическое воздействие одного коммуниканта на другого с целью изменения поведения последнего. Эффективность коммуникации измеряется именно тем, насколько удалось такое воздействие. Следовательно, при обмене информацией происходит изменение типа отношений, сложившихся между участниками коммуникации. Ничего похожего не происходит в чисто информационных процессах. Коммуникатив- ное влияние как результат обмена информацией возможно лишь тогда, когда человек, направляющий информацию (коммуникатор), и человек, принимающий ее (реципиент), обладают единой или сходной системой кодификации и декодификации. Это особенно важно потому, что коммуникатор и реципиент в коммуникативном процессе постоянно меняются местами. Всякий обмен информацией между ними возможен лишь при условии, что знаки и, главное, закрепленные за ними значения известны всем участникам коммуникативного процесса. Только принятие единой системы значений («тезаурус») обеспечивает возможность понимания партнерами друг друга. Все дело, однако, в том, что, даже зная значения одних и тех же слов, люди могут понимать их неодинаково в силу социальных, политических, возрастных особенностей. Еще Л.С. Выготский отмечал, что мысль никогда не равна прямому значению слов. В связи с этим у общающихся должны быть идентичны (в случае звуковой речи) не только лексическая и синтаксическая системы, но и понимание ситуации общения. А это возможно лишь в случае включения коммуникации в некоторую общую систему деятельности.
В условиях человеческой коммуникации могут возникать специфические коммуникативные барьеры, не связанные с уязвимыми местами в каком-либо канале коммуникации или погрешностями кодирования и декодирования, а определенные социальными или психологическими причинами. Очевидно, такие барьеры могут возникать из-за того, что отсутствует понимание ситуации общения, вызванное не просто несоответствиями в языке, на котором говорят участники коммуникативного процесса, а более глубокими различиями между партнерами (социальными, политическими, религиозными, профессиональными), порождающими разную интерпретацию тех же понятий, употребляемых в процессе коммуникации, а также различное мироощущение, мировоззрение, миропонимание. При проявлении такого рода барьеров, порожденных объективными социальными причинами, принадлежностью партнеров по коммуникации к различным социальным группам, особенно отчетливо проступает включенность коммуникации в более широкую систему общественных отношений и деятельности. Естественно, что процесс коммуникации осуществляется и при наличии этих барьеров: даже военные противники ведут переговоры. Однако в таких случаях ситуация коммуникативного акта значительно усложняется.
Наиболее перспективным и открывающим широкий исследовательский простор мы считаем понимание сущности коммуникативной деятельности как процесса установления связи [3; 11; 15; 16; 20], обеспечения всесторонних контактов субъекта с объектом. Информационная же деятельность выполняет задачу снабжения общества разнообразными сведениями и тем самым снимает неопределенность, которая возникает при их недостаточности или избыточности.
К атрибутам коммуникативной деятельности мы относим технокоммуникацию и общение. Здесь необходимо уточнить взаимосвязь понятий «коммуникация» и «общение». К общению следует относить исключительно межсубъектные, или субъект-субъектные, отношения. Они являются одной из двух основных форм коммуникативной деятельности, которая бывает также и объект-объектной (технокоммуникация). Правда, нередко говорят об «общении» человека с природой, компьютером и т.п. Однако в данном случае употребление этого термина некатегориально. К контактам подобного типа более применим термин «коммуникация».
В ходе общения происходит обмен знаниями и оценками, мыслями и переживаниями, чувствами и эмоциями субъектов (индивидов, социальных групп, макрообщностей). Наиболее глубокий смысл общения – установление с другим человеком не любого контакта, а положительной эмоциональной связи (состояния взаимопонимания и взаимоподдержки).
Технологическое (объект-объектное) отношение в сфере коммуникации складывается между различными материальными системами, к которым относится то, что чаще всего именуется инфраструктурой: железнодорожные, воздушные и морские пути, телефонная и телеграфная связь и т.д. Технокоммуникация выступает тем реальным фундаментом, на котором базируется массовое общение субъектов: ведь морские и железнодорожные перевозки людей, системы радио- и видеосвязи во мно- гом призваны обеспечить стабильные контакты субъектов путем создания различных материальных каналов для их разностороннего общения.
Сложность разведения коммуникативных субъект-субъектных и объект-объектных отношений гносеологически обусловлена тем, что они не существуют вне деятельности людей. Технокоммуникация в качестве объект-объектного отношения – не то же самое, что естественные связи материально-природных образований, которые функционируют независимо от общественной формы движущейся материи.
Человек – участник не только субъект-субъектных, но и объект-объектных отношений, однако в них он использует разные возможности. Cубъект-субъектное общение предполагает в первую очередь взаимосвязь и эмоционально-духовное взаимодействие людей. Напротив, объект-объектная технокоммуникация обращена прежде всего к телесно-физическим свойствам человека: силе его рук, ног и т.д. Когда индивид реализует свои не столько интеллектуальные, сколько телесные способности (например, мускульную силу собственного тела), он выступает скорее объектом, чем субъектом коммуникативной, информационной или какой-либо иной деятельности. Если первоначально объект-объект-ное отношение вбирало, главным образом, телесно-физические качества работника, то со временем, по мере возрастания информационно-орудийной оснащенности, технокоммуникация все больше использует его субъективные духовные силы. Так, современная электронно-вычислительная техника успешно продуцирует новую информацию.
Различие между объект-объектной и субъект-субъектной формами коммуникации предполагает моменты абсолютного и относительного. Абсолютность разделения целостной коммуникативной системы на два вида детерминируется их принципиальной несводимостью друг к другу. Это понятно, если учесть, что отношение машины к машине отнюдь не эквивалентно взаимодействию между людьми как субъектами. Способность человека превращать в объект деятельности самые различные свои качества и свойства вносит в проводимое здесь разграничение момент относительности. Поэтому субъект-субъ-ектные и объект-объектные связи не являются абсолютно противоположными или рядоположенными. Их взаимодействие носит совсем иной характер: они переплетаются и взаимопредполагают друг друга, существуя в единой коммуникативной системе.
Как следует понимать тезис о том, что отношения субъекта с субъектом и объекта с объектом выступают таковыми лишь по форме, а не по содержанию? Остановимся вначале на субъект-субъектном отношении. Оно представляет собой взаимосвязь субъектов различных уровней. При этом мы сталкиваемся с тем, что определенные социальные общности относятся к другим людям не как к равноправным субъектам, а как к типичным объектам – животным, машинам или вещам. Тем самым возможности одних индивидов и социальных общностей как субъектов ограничиваются другими субъектами, в результате чего отношение последних к первым приобретает характер субъект-объектного.
Конечно, вполне реально существование типа отношений, иногда называемого «атомистическим» и выражающегося в стремлении человека вести предельно замкнутый образ жизни и не позволять обращаться с собой как с объектом. Можно сказать, что такие люди как бы стремятся замкнуться в своей субъектности. Однако подобный стиль жизни невозможно возвести в норму (это приведет к распаду общества), поэтому он характерен лишь для отдельных индивидов и социальных групп. Впрочем, даже отдельная личность осуществляет свою жизнедеятельность субъект-объектным образом: человек должен поддерживать здоровье своего тела и его отдельных органов, употреблять воду и продукты питания, а также решать те или иные умственные задачи, которые ставит перед ним жизнь, выделяя тем самым как материальные, так и идеальные предметы деятельности. Следовательно, даже предельная степень автономизации не позволяет человеку полностью избавиться от объекта: внутреннего или внешнего, идеального или материального. Сказанное в еще большей степени относится к таким сложным субъектам-объектам, как общность или население региона, государства, мира в целом. Таким образом, население и индивид могут быть рассмотрены в качестве не только субъектов, но и особых объектов общественной технологии. С точки зрения объекта-субъекта, люди интегрируют все плюсы и минусы сложившейся социальной технологии, начиная с процесса их воспроизводства естественным или искусственным путем. Иными словами, человек «технологичен» не только в смысле прямой связи его телесности с материальной природой и общественной средой – возможны различные методы появления ребенка на свет, в ходе жизни человеку приходится обзаводиться всяческими техническими искусственными приспособлениями.
Устойчивость общества во многом обеспечивается эффективно функционирующим государством, где действуют чиновники, которые управляют людьми, как вещами. В связи с этим взаимоотношения управленцев-бюрократов и управляемых, по форме являясь типично человеческой межсубъектной связью, по содержанию выступают в качестве субъект-объектных, ибо одна из сторон присваивает себе функции субъекта, тогда как вторая нередко приравнивается к рядовому объекту. В художественной литературе красочно представлена многовековая картина этого отчужденного, часто унизительного и бесправного положения простого гражданина, его многосторонней зависимости от воли чиновника.
Вместе с тем было бы ошибочным думать, что в какой-то период истории отношения людей способны оказаться за пределами субъект-объектной связи (выражающейся в отношениях неравноправия, неравновеликости, асимметричности). Каждая формация или историческая стадия должны обеспечить интересы социума, ограничив в чем-то реализацию жизненных целей отдельных социальных групп и индивидов в пользу общества. Дисимметрия свойственна и отношениям субъектов на межличностном уровне. Приведем характерный пример. Предположим, пациент нуждается в медицинской помощи. Хирург делает ему операцию по удалению аппендикса. Взаимодействие этих двух людей, будучи по форме субъект-субъектным, по содержанию остается субъект-объектным, т. е. неравновеликим. От удачи в данном взаимодействии нередко зависят дальнейшая жизнь и здоровье пациента, для врача же это один из рядовых эпизодов в профессиональной деятельности. В иной ситуации врач может оказаться в положении объекта-субъекта для того же самого бывшего пациента.
Для описания субъект-субъектного характера человеческого общения обычно используют термин «диалогичность». Действительно, общение есть своеобразный диалог на равных, или взаимодействие двух равнозначных субъектов. Вместе с тем диалог двух людей по содержанию остается субъект-объ-ектным, т.е. в какой-то мере асимметричным, поскольку один из людей играет ведущую и более активную роль, а второй менее активен. Однако даже в ситуации полного интеллектуального и эмоционального равновесия общение (если не превращать его в диалог глухих) предполагает попеременную активность одного из субъектов: один говорит – другой слушает, затем наоборот.
Все вышесказанное свидетельствует о фундаментальности субъект-объектной (объект-субъект-ной) связи и ее принципиальной неотделимости от межсубъектных и межобъектных отношений. Эта субъект-объектная связь может осуществляться в какой-либо из двух форм – субъект-субъектной или объект-объектной; наличие обеих форм не является обязательным в каждом случае. В то же время объ-ект-субъектная связь не способна существовать сама по себе, т.е. вне своей конкретной формы.
К сторонам основного (диалектического) противоречия феномена коммуникации мы относим гра-туал (от лат. gratus – «привлекательный») и ингратуал (от ла т. ingratus – «непривлекательный»). Эти термины введены в философскую теорию с целью описания феномена виртуальности. Мы полагаем необходимым расширить понимание гратуала и ингратуала до важнейших констант не только виртуальной, но и более объемной коммуникативной деятельности.
Гратуальность коммуникации означает не только ее привлекательность, приятность, но и необычные, непривычные, экстатические события, которые сопровождают процесс установления общественной связи. Гратуальная составляющая – это наиболее интенсивный (эмоционально, информационно) способ коммуникации, сопровождаемый актуализацией или укрупнением образа реципиента. Эмоционально-психологическое содержание гратуальной стороны процесса коммуникации коррелирует с соответствующим ему информационным, управленческим и иным содержанием.
Другой стороной движущего противоречия коммуникации является ингратуал , в котором процесс установления связи становится вязким, тяжелым, непривлекательным. Сфера коммуникативной деятельности здесь как бы уменьшается: отрицательный эмоциональный фон не позволяет полностью усваивать информацию, и она перерабатывается с трудом. В ингратуале сознание субъекта как бы сужается и становится «темным», мышление – вязким, внимание – рассеянным и т. д. В ингратуале осуществление коммуникации возможно только с помощью волевых усилий, процесс установления связи «не идет».
Таким образом, для общественной связи имеет существенное значение, какая именно сторона окажется превалирующей – гратуальная или ингратуальная. В зависимости от преобладания одной из них эффективность коммуникативного процесса серьезно меняется: повышается в гратуале и уменьшаться в ингратуале. Усиление гратуальной стороны основного движущего противоречия коммуникации можно трактовать как переход на более высокий эмоциональный уровень процесса установления общественной связи, актуализация же ингратуальной составляющей означает переход этой связи на более низкий уровень. Психологически человек переживает гратуал как расширение и усиление своих коммуникативных способностей, а ингратуал – как их сужение и ослабление. В качестве примера можно привести динамику развития отношений семейной пары. Первоначально отношения молодых людей носят ярко выраженный гратуальный характер. Их общение интенсивно и, как правило, доставляет партнерам немало приятных переживаний. Это первый период в жизни семьи, который может длиться от нескольких дней до многих лет. В границах второго периода гратуальные и ингратуальные эмоции уравновешивают друг друга. Общение супругов становится менее интенсивным и уже не доставляет тех приятных волнений, которые были ранее. В границах третьего временного цикла постепенно начинают преобладать ингратуальные настроения, способные привести к распаду семьи. Показательна в рассматриваемом плане история любви Л.Н. Толстого и его жены. На первом этапе оба пережили яркое и незабываемое чувство, гратуальные переживания здесь несомненно превалировали. Позднее установилось примерное равновесие этих двух противоположных сторон коммуникации. Наконец, на третьем этапе в отношения супругов все больше проникает ненависть, что привело к побегу знаменитого писателя из семьи. Ингратуальные настроения взяли верх над гратуальными.
Приведем также пример из области технокоммуникации. Завод-изготовитель выпускает какое-либо новое удачное средство связи – машину, самолет и т.д. Во всем мире начинается этап экспансии данного изделия. Это период гратуала. Затем постоянно меняющиеся условия жизни требуют более мощных и эффективных средств связи. До определенного момента удается повышать характеристики последних (скорость передвижения, вместимость салонов и т.п.). Однако такой рост (преимущественно количественный) рано или поздно обнаруживает границы, за которые невозможно выйти в рамках данного производственного стандарта. Тогда начинаются поиски новых принципов средств передвижения (например, на смену прежним самолетам приходят сверхзвуковые). Какое-то время старые и новые артефакты сосуществуют, что в контексте нашего исследования означает совмещение гратуальной тенденции с ингратуальной. Затем наступает третий период существования изделия, когда оно становится старым и неэффективным в технологическом или ином измерении и устраняется из эксплуатации. Например, сегодня в ряде регионов мира запрещено использование самолетов, уровень шума которых превышает пределы, еще недавно считавшиеся допустимыми.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что гратуал и ингратуал не являются исключительно психологическими (эмоциональными) или социально-психологическими факторами коммуникации, а имеют также отчетливо выраженные техногенные свойства.
Перейдем к описанию структуры коммуникации, которая, на наш взгляд, включает три основных компонента.
Первым ее компонентом выступает повседневная (обычная), или консуетальная, коммуникация. К ней следует относить привычное для нас массовое общение людей, технологические системы его обеспечения и т.п.
Вторым функциональным компонентом является симулятивная (неконсуетальная) коммуникация, находящая непосредственное выражение в виртуальной деятельности. Виртуальные процессы, как и коммуникативная деятельность, осуществляются одновременно (параллельно) в двух своих формах – субъект-субъектной и объект-объектной. Так, с одной стороны, человек, работая с компьютером, постоянно общается с самим собой: ведет внутренний диалог, проговаривает про себя и оценивает новые идеи, оценки, образы и т.д. С другой стороны, компьютер представляет собой системное техническое устройство, в котором различные подсистемы обеспечивают единый, согласованный контакт с другими компьютерами или человеком.
Типичным примером объект-объектной виртуальной деятельности выступает ситуация, когда два (и более) компьютера совместно решают какую-либо задачу (например, в ходе чемпионата мира среди шахматных программ). Разумеется, виртуальной эта деятельность выглядит с точки зрения человека как субъекта.
Отличительным признаком виртуальной коммуникации выступает неконсуетальность (неконстантность). Что означает этот признак и в чем заключается смысл оппозиции «консуетальность – неконсу-етальность» («константность – неконстантность»)? Под консуетальной (константной) деятельностью специалисты в области виртуалистики понимают достаточно привычную для субъекта деятельность. Подобная нормальная (нормативная) деятельность является не виртуальной, а константной. Следовательно, виртуальности противостоит невиртуальность, т.е. консуетальность, которая представляет собой повседневную, следовательно, хорошо известную субъекту и апробированную им деятельность. Напротив, неконсуетальная деятельность необычна, ненормативна, непривычна, т.е. в определенном плане неестественна для человека. Константными выступают свойства, присущие человеку, например, способности. Благодаря константности обеспечивается воспроизводимость результатов, т.е. реализация определенного свойства в любое время и в любом месте. Причем эти свойства могут носить как социально позитивный, так и социально негативный характер [14, с. 7].
Психологически неконстантность виртуальности проявляется в том, что к событиям последней нельзя привыкнуть. Иными словами, как бы часто данное событие (виртуал) не возникало, каждый раз оно переживается как необычное и непривычное (Там же, с. 15). Это событие протекает спонтанно и ощущается как фрагментарное, в нем изменяется топос реальности.
Повседневная коммуникация имеет тенденцию усреднять и стандартизировать отношения субъектов, унифицировать нормы морали и поведения, виртуальная же коммуникация дает человеку ощущение неограниченной свободы, возможность самому создавать этические нормы и модели поведения. Вследствие опосредованности компьютером большинству форм технической виртуальной коммуникации свойственна анонимность (понимаемая как анонимность диалога, в котором партнеры не представлены друг другу), что в сочетании с возможностью в любой момент уйти от контакта приводит к снижению психологического риска в процессе общения. В результате виртуальная коммуникация делает возможным удовлетворение обычно подавляемых побуждений, что может спровоцировать маргинальное поведение. Кроме того, следствием анонимности является отсутствие у коммуникантов достоверной информации друг о друге. В связи с этим в ходе виртуальной коммуникации происходит непрерывное конструирование как образа виртуального собеседника (зачастую путем приписывания ему тех характеристик, которыми он на самом деле не обладает), так и правил взаимодействия с ним. В таком случае общение с виртуальным собеседником посредством Интернета или электронных коммуникаций – это установление связи со сформированным виртуальным образом, находящимся уже в сознании человека, в «самообразе» (по терминологии Н.А. Носова). Более того, в процессе виртуальной коммуникации происходит постоянное конструирование личности самого коммуникатора: специфика виртуального взаимодействия позволяет создавать о себе какое угодно впечатление (примерять любую маску и роль), иными словами, экспериментировать со своей идентичностью. Не случайно большинство участников виртуального взаимодействия пользуется псевдонимами («никами»): смена имени фиксирует символический отказ от реальной личности и выход из реального социума, что сближает виртуальную коммуникацию со средневековым карнавалом.
Поскольку в ситуации виртуального взаимодействия изначально отсутствуют те факторы, которые образуют и поддерживают социальное неравенство в реальном мире (у виртуальных персонажей нет тел, а значит, нет и пола, возраста, расы, национальности), виртуальная реальность носит принципиально нестатусный характер, а единственным критерием социальной эффективности в Интернете являются личностные качества и коммуникативные навыки участника взаимодействия. Размывание реальных ролей и статусов, уничтожение пространственных барьеров и географических границ, наконец, деконструирование самих субъектов взаимодействия затрудняют контроль над виртуальной коммуникацией со стороны тех или иных социальных институтов, поэтому еще одной существенной ее особенностью является неинституциональность, которая неизбежно сопровождается неопределенностью социальных норм, регулирующих поведение людей в этой сфере [10].
Различие между симульным (виртуальным) и консуетальным также включает моменты абсолютного и относительного. Абсолютность их различия состоит в том, что определенное явление не может быть в одно и то же время константным (виртуальным) и неконстантным. Относительность их противопоставления обусловлена тем, что виртуальная реальность может породить виртуальную реальность следующего уровня, став относительно нее константной реальностью; и так до бесконечности. И наоборот – виртуальная реальность может умереть в своей константной реальности. Кроме того, в отличие от виртуальной, константная реальность представляет собой порождающую реальность [14, с. 13].
Итак, ранее мы определили природу виртуальности как неконсуетальной (неконстантной) коммуникации. Между тем, во-первых, термин «неконсуетальность» содержит отрицательную частицу «не», что не приветствуется научной логикой; во-вторых, неконстантный характер скорее всего присущ не только виртуальной, но и другим формам коммуникации, в частности, игровой деятельности (точнее, здесь примерно в равной степени неконстантность сочетается с константностью). Данная ситуация требует поиска термина, который бы позитивно раскрывал специфику именно виртуальной реальности. С этой целью целесообразно рассмотреть возможность использования термина «симулякр». В силу ряда причин он приобрел во многом негативное содержание, что не в последнюю очередь обусловлено теми коннотациями, которые он получил в постструктуралистской и постмодернистской философии. Так, Ж. Делёз выдвинул задачу «низвержения платонизма», имея в виду в первую очередь проблему установления адекватных различий между самой вещью и ее образами, оригиналом и копией, моделью и симулякром. Применяя весьма субъективисткий метод, Делёз стремился предельно отделить друг от друга подлинные копии реальности от симулякров. Приводимые им доводы порой не лишены оригинальности и изобретательности, однако позиция мыслителя все-таки выглядит шаткой. В качестве «доказательства» Делёз и самого человека именует симулякром [4, с. 229]. Ж. Бодрийяр также полагает, что симулякр не соотносится ни с какой реальностью, кроме собственной. Таким образом, симулякр рассматривается в качестве исключительно искусственной (негативной) сущности и выходит за границы оппозиции «подлинник – копия».
В действительности виртуальное не есть нечто исключительно субъективное (мнимое, воображаемое, несуществующее). Мало того, виртуальная реальность (в отличие от всех других психических производных типа воображения) характеризуется тем, что человек воспринимает и переживает ее не как порождение своего ума, а как объективную реальность [14, с. 14]. В целом же здесь отсутствует четкое разделение объективного и субъективного, различные содержания перетекают друг в друга, становясь неразличимыми. Невозможно также согласиться с тем, что какие-то исторические или современные явления и процессы (первобытное общество, виртуальная реальность и т.д.) могут существовать вне диалектического процесса [2, с. 3, 20, 268, 360]. В подобных представлениях о специфике виртуальности и симулякра отчетливо просматриваются тенденция абсолютизации субъективной стороны и недооценка объективной, которая как бы остается за скобками постмодернистских и постструктуралистских концептов.
В определенной мере негативной окраске термина способствует языковая проблема, связанная с образованием от существительных «симуляция» и «симулякр» одного и того же прилагательного – «симулятивный» («симульный»). Между тем, помимо гносеологических причин, существуют также аксиологические (социальные): новые технологии (включая виртуальные) в обществе отчуждения не могут не быть также отчужденными, т.е. во многом социально негативными. Виртуальная реальность, как и любая иная, сама по себе не является чем-то сугубо отрицательным. Ее оценочный статус зависит от тех целей, для которых она используется.
Понятие симулякра, на наш взгляд, – обязательный и неотъемлемый элемент в общей системе виртуальной реальности. Но чем именно он здесь является? Или, по-другому, в каких традиционных философских категориях можно было бы его истолковать? По-видимому, симулякр следует рассматривать в качестве сущностной черты виртуальной деятельности, которая, будучи целостным явлением, включает в свою ткань также элементы консуетального бытия.
Вышесказанное позволяет уточнить дефиницию виртуальности и определить ее сущность как си-мулятивную (неконсуетальную) коммуникацию. Симулятивная (внутриличностная или межличностная) виртуальная коммуникация, будучи по форме субъект-субъектной, в содержательном формате остается субъект-объектной, роль объекта здесь выполняет искусственный самообраз, созданный психикой человека, но воплощенный компьютером в технической виртуальной реальности. Так, шахматная игра человека с компьютером представляет собой процесс установления симулятивной (неконстантной) связи между сознанием (знаниями, умениями) игрока и заложенным в компьютер алгоритмом шахматной программы, реагирующей на его ходы. В то же время у человека, играющего с компьютером, возникает стойкое убеждение в том, что ему противостоит не машина, наделенная возможностями быстрого перебора ходов и выбора из них оптимального, а достойный противник, скрывающийся за экраном монитора. В первом приближении отличия виртуальных шахмат от обычных могут показаться не слишком серьезными: перед игроком те же правила игры, 64 черно-белых клеток доски и т.п. Иными словами, ситуация выглядит во многом константной. Между тем, разница между обычными и виртуальными шахматами достаточно значима и определенна; она касается как самого процесса игры, так и особенностей общения субъекта с компьютерной программой. С одной стороны, стиль компьютерных программ, в отличие от мышления человека, выглядит во многом предсказуемым и не таит в себе неожиданностей иррационального или крайне субъективного плана. С этой точки зрения, шахматная программа, имеющая тот же коэффициент (уровень), что и человек, выступает менее грозным соперником, чем белковый интеллект. С другой стороны, компьютерная программа в рамках своего уровня не делает, в отличие от человека, досадных ошибок, или «зевков» (позиционных или тактических). В силу этого при равных уровнях естественного и искусственного интеллектов последний окажется в конечном счете сильнее первого (будет чаще выигрывать). И это обстоятельство крайне неприятно для человека. В обычных же шахматах ошибки одного из игроков уравниваются ошибками партнера. Даже если шахматная игра ведется между двумя партнерами по Интернету, то и в этом случае ситуация не теряет своего неконстантного характера. Прежде всего это касается психологической ситуации: играющие не видят и не чувствуют эмоционального состояния друг друга, что так важно в любом нормативном спортивном состязании. При этом следует учесть, что в спортивных виртуальных играх симулякров в количественном плане значительно меньше, чем в коммуникациях неспортивного плана (различные контакты через Интернет и т.п.).
Третьим компонентом в структуре коммуникации выступает смешанная – консуетально-некон-суетальная – коммуникация, которая находит весьма зримое воплощение в игровой деятельности. Для обозначения данного компонента коммуникации воспользуемся термином «аугментированный». Этот термин заимствован нами у В.С. Бабенко, который обозначил с его помощью особый, «расширенный» вид реальности [1, с. 13–14]. Первоначально термин «аугментированная реальность» использовался для характеристики ситуации, в которой деятельность человека предполагала наличие неких дополнительных кибернетических средств. Впоследствии под «аугментированной реальностью» подразумевалось наложение на реальную, видимую наблюдателем картину синтезированного изображения в виде графиков, символов и т.п.
Эталоном аугментированной коммуникации выступает игровая деятельность. Как известно, существует множество концептов, касающихся проблемы сущности, функций или способов классификации игр. Мы не ставим цель их критического или какого-либо иного анализа. Наша задача – обосновать коммуникативно-аугментированную природу игры. Подлинная игра осуществляется в коллективе, поэтому мы солидарны с теми исследователями, которые рассматривают игру как школу общения. В то же время возможны чисто технические игры без участия человека: например, чемпионат шахматных программ или футбольный матч среди роботов и т.п.
Коммуникативная специфика игры заключается в неразрывной связи в ее содержании феноменов консуетальности и симулятивности. Возможны также ситуации, когда в игровой деятельности доминирующей является симульная составляющая (или наоборот – консуетальная). Однако, если брать игровую деятельность в ее всеобщности, эти противоположности уравновешивают друг друга.
Всякая полноценная игра, с одной стороны, содержит неустранимый элемент новизны, креативности, с другой – никогда не покидает нормативную (привычную) реальность. В игре обе эти стороны дополняют и взаимообусловливают друг друга. Исследователи отмечают, что в игре людей наличествуют и отлет от действительности, и проникновение в нее. В игре отсутствует воздействие на предметы (как, например, в материально-практической деятельности), но вместе с тем все существенное в ней обладает статусом подлинной реальности (чувства, желания, замыслы). Так, в футбольном матче или шахматном турнире участники стремятся добиться реальной, а не виртуальной победы над соперником.
Симульный характер игры во многом определяется наличием в ней чувства свободы. Иными словами, в игре человек чувствует себя свободным. Играя, например, в футбол, индивид волен избрать различные стратегии или тактики (скажем, играть от обороны или, напротив, дать простор открытому атакующему футболу, использовать приемы борьбы, еще неизвестные соперникам и т.д.).
В данном контексте характерно противопоставление игры и труда. Не отрицая взаимосвязи между ними (свободный, творческий труд может быть игрой физических и интеллектуальных сил), исследователи все же указывают на то, что труд – это не игра, а игра – не труд. И, хотя игровой элемент присущ всем видам деятельности, акцентированные игры характерны в первую очередь для сферы досуга, который и предоставляет человеку максимум свободы. Разумеется, свобода в игровой деятельности более или менее ограничена, поскольку в большинстве случаев опирается на определенные правила (устойчивые связи, отношения). Последние устанавливаются либо самими играющими по образцу отношений в неигровой реальности, либо местным, региональным или международным социумом. Специалисты отмечают, что игры, которые предполагают соревнование, могут перерасти в спортивные игры, где важен уже не только процесс игры, но и ее результат (победа или поражение). Здесь проходит тонкая грань, за которой собственно игра переходит в спорт. В этом случае доминирующим мотивом становится уже не столько содержание игры, сколько ее результат. Хотя игровое начало сохраняется, игра переходит в свою противоположность, где целью выступает победа, которая является относительно внешним фактором для самого игрового действия. Как отмечает в данной связи А.Н. Леонтьев, мотив игры «…лежит не в результате, а в содержании самого действия. Поэтому игровое действие свободно от той обязательной стороны его, которая определяется реальными условиями данного действия, т. е. свободно от обязательных способов действия, операций» [8, с. 475].
Итак, структура коммуникации трехмерна и включает повседневную (консуетальную), виртуальную (симульную) и игровую (аугментированную) деятельность. В заключение приведем алгоритмическую схему описания категории коммуникативной деятельности.
|
1 Атрибуты Технокоммуникация |
Коммуникативная деятельность 23 Стороны основного противоречия Структура Гратуал Виртуальная |
|
Общение |
Игровая Ингратуал Повседневная |
Список литературы Теория коммуникации в алгоритмическом контексте
- Бабенко В.С. Виртуальная реальность: Толковый словарь терминов. СПб.: ГУАП, 2006.
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000.
- Булычев И.И. Основы философии, изложенные методом универсального логического алгоритма. Тамбов: Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина, 1999.
- Булычев И.И. Основы философии, изложенные методом универсального логического алгоритма. Тамбов, 1998. 5. Делёз Ж. Логика смысла. М.: Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998.
- Ионов А.С. Социально-философский анализ проблемы исследования коммуникативной деятельности: автореф. канд. филос. наук. М., 2006.
- Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. М., 1988.
- Кардинская С.В. Самоактуализация социального воображаемого в фигурах рекламной коммуникации//Визуальные аспекты культуры. Ижевск, 2006.
- Леонтьев А.Н. Проблема развития психики. М., 1972.
- Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. Жуковский: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 2003.
- Малькова Е.Ю. Этические проблемы виртуальной коммуникации: автореф. канд. филос. наук. СПб., 2004.
- Мартишина Н.И. Функции коммуникации в науке//Философия ХХ века о познаниях и его аксиологических аспектах: материалы межвуз. науч. конф. Ульяновск, 2009.
- Матьяш О.И. Что такое коммуникация и нужно ли нам коммуникативное образование. URL: http://www.russcomm. ru/rca-biblio/m/matyash01.shtml.
- Михайлова Т.Л. Системный подход в коммуникативистике//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия «Социальные науки». 2007. №3. С. 64-71.
- Носов Н.А. Виртуальный человек: Очерки по виртуальной психологии детства. М.: Магистр, 1997.
- Обухов К.Н. Коммуникативные основания сетевых структур социального//Вестн. Удмурт. ун-та. 2009. Вып. 1. С. 145-148.
- Парыгин Б.Д. Социальная психология. СПб., 1999.
- Пшегусова Г.С. Социальная коммуникация: сущность, типология, способы организации коммуникативного пространства: дис. д-ра филос. наук. Ростов н/Д., 2003.
- Снетков В.М. Психология коммуникации в организациях. СПб., 2000.
- Тихонова С.В. Социальная мифология в коммуникационном пространстве современного общества: автореф. д-ра филос. наук. Саратов, 2009.
- Хохлова Е.А. Коммуникационные процессы в современном социокультурном пространстве: автореф. канд. филос. наук. Ставрополь, 2006.
- Черникова Д.В. Коммуникация и управление в аспекте синергетики: дис. канд. филос. наук. Томск, 2004.
- Юхвид Е.Н. Социально-философский анализ информативно-коммуникативной системы общества в концепции
- М. Маклюэна: автореф. канд. филос. наук. М., 2007.